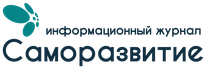-------
| сайт collection
|-------
| Гельмут Пабст
| Дневник немецкого солдата. Военные будни на Восточном фронте. 1941-1943
-------
На рассвете 22 июня 1941 года Германия всей мощью своей трехмиллионной армии перешла границу с Советским Союзом и Румынией. Одна армейская группировка наносила удар в северо-восточном направлении по линии Вильнюс – Ленинград. Другой удар наносился на юго-восток в направлении Киева. Третий – группой армий «Центр» под командованием фон Бока, продвигавшейся на восток в направлении Белосток – Минск – Смоленск – Москва.
К артиллерийской части этой армейской группировки был прикомандирован унтер-офицер связи тридцатилетний Гельмут Пабст, бывший студент, изучавший юриспруденцию, и участник германской оккупации Франции. С первой недели русской кампании Пабст вел дневник в форме писем родителям и друзьям во Франкфурте-на-Майне. Особенно часто он обращался к отцу, воевавшему против России в Первую мировую войну 1914–1917 годов.
При том что над ним довлела цензура полевой почты, Пабст смог рассказать о трех летних и двух зимних периодах жестоких боев не только с точки зрения солдата, исполняющего воинский долг, но и с позиции человека, с искренней симпатией относившегося к русским и проявившего полное отвращение к ведущему войну высшему руководству. Между строк можно увидеть все более выраженный сарказм, который достигает своего апогея в отвержении всей пропаганды, которую рядовой молодой немец – вовсе не нацист – неосознанно впитал при Гитлере. Его позиция многими не может быть понята и принята, но с исторической точки зрения взгляд человека иной идеологии, безусловно, интересен.
Отдельные, выделенные курсивом выдержки призваны обозначить определенные события на общем фоне войны. Само повествование не исправлялось, а высказываемые замечания не пояснялись, ведь Пабст принял участие в боевых действиях осенью 1943 года.
Трудно поверить в то, что это произошло всего два дня назад. На этот раз я был в первом атакующем эшелоне. Подразделения бесшумно подтягивались к своим позициям, переговаривались шепотом. Скрипели колеса штурмовых орудий. За две ночи до этого мы произвели рекогносцировку местности, теперь поджидали пехоту. Пехотинцы подошли темными, призрачными колоннами и двигались вперед через поля капусты и зерновых злаков. Мы шли вместе с ними, чтобы действовать в качестве артиллерийского подразделения связи 2-го батальона. На картофельном поле поступила команда «Окопаться!». Батарея номер 10 должна была открыть огонь в 3.05.
3.05. Первый залп! В тот же момент все вокруг ожило.
Огонь по всему фронту – пехотные орудия, минометы. Сторожевые вышки русских исчезли в огневых вспышках. Снаряды обрушились на батареи противника, местоположение которых было установлено задолго до атаки. Гуськом и развернутым строем пехота ринулась вперед. Болото, канавы; ботинки, полные воды и грязи. Над нашими головами от позиции к позиции велся заградительный огонь. Огнеметы выдвинулись против опорных пунктов. Пулеметный огонь и пронзительный свист пуль. Мой молодой радист с сорока фунтами груза за спиной в первые полчаса чувствовал себя несколько ослабленным. Затем у казарм в Конопках нам было оказано первое серьезное сопротивление. Передовые цепи застряли. «Штурмовые орудия, вперед!»
Мы были с командиром батальона на маленькой высотке, в пятистах метрах от казарм. Нашим первым раненым стал один из посыльных. Только мы установили радиосвязь, как вдруг нас обстреляли из ближних казарм. Снайпер. Мы впервые взялись за винтовки. Хоть мы и были связистами, но, должно быть, стреляли лучше – стрельба снайпера прекратилась. Наша первая добыча.
Наступление продолжалось. Мы продвигались быстро, иногда прижимаясь к земле, но неотступно. Траншеи, вода, песок, солнце. Все время меняем позицию. Жажда. Нет времени поесть. К десяти часам мы уже стали бывалыми солдатами, повидавшими немало: брошенные позиции, перевернутые бронеавтомобили, первых пленных, первых убитых русских.
Ночью три часа мы сидели в окопе. С флангов нам угрожали танки. И снова нашему продвижению предшествовал заградительный огонь. По обе стороны от нас – атакующие батальоны. Совсем близко возникали яркие вспышки. Мы оказались прямо на линии огня.
Первая сожженная деревня, от которой остались одни только трубы. Там и сям – сараи и обычные колодцы. Впервые мы оказались под артиллерийским огнем. Снаряды издают необычный поющий звук: приходится быстро окапываться и зарываться в землю. Постоянно меняем позицию. Мы опускаем нашу аппаратуру на землю. Прием, в отличие от вчерашнего, был хороший. Но едва успели принять донесение, как батальон двинулся дальше. Мы бросились догонять его.
Около трех часов прошли через линию траншей, марш между болот. Вдруг – остановка. Кто-то скомандовал: «Противотанковые орудия вперед!» Пушки пронеслись мимо. Затем на пути – песчаное пространство, покрытое зарослями ракитника. Оно протянулось примерно на два километра до главной дороги и реки, у крепости Осовец.
На завтрак у нас был кусок хлеба. На обед – один сухарь на четверых. Жажда, жара и этот проклятый песок! Мы устало протрусили вдоль, поочередно неся груз. В ботинках хлюпала вода, в них забились грязь и песок, лицо покрывала двухдневная щетина. Наконец – штаб-квартира батальона, на краю равнины. Вверху у реки – наш аванпост. Русские точно знают, где мы.
Быстро окапываемся. Видит Бог, не слишком-то быстро. Мы уже точно знаем, когда приближается снаряд, и я не могу удержаться от смеха, когда мы с головой зарываемся в наши норы, припадая к земле, как мусульмане во время намаза. Но наконец – хорошего понемножку – пехота оттягивается назад. Мы свертываем аппаратуру и во время паузы в артобстреле делаем рывок. Справа и слева от нас бегут другие, и все мы одновременно плюхаемся в грязь. Я не могу удержаться от смеха.
Добравшись до относительно безопасного места, сосредоточились в окопе и стали ждать темноты. Разделили между собой последние сигареты. Комары совершенно обезумели. Стало поступать больше сигналов. Я чуть с ума не сошел, расшифровывая их, потому что мой фонарь привлекал еще больше комаров. И снова появилась пехота, возвращающаяся с огневого рубежа. Мы не совсем понимали, что происходит.
Мы знали, что где-то должна быть высота, глубокий окоп. Там нас ждали суп и кофе – столько, сколько мы хотели. Пройдя в сумерках еще два километра, мы завершили рейд у одной из наших батарей. Вскоре уже лежали рядом друг с другом, натянув куртки на уши. Русские снаряды пожелали нам спокойной ночи. Когда мы снова вылезли около четырех часов, то обнаружили, что находимся в сотне метров от нашей штаб-квартиры.
Час спустя мы двигались маршем на запад, затем на север. Когда опустилась ночь, мы были возле села Августова, церковь которого с ее двумя куполами напомнила мне об отце. Немного поодаль от Августова в направлении Гродно нам вновь объявили состояние боеготовности. Мы должны были быть готовы к половине одиннадцатого. Нас разбудили в половине первого, и в конце концов мы вышли в пять часов утра. Ситуация все время менялась; фронт приближался очень быстро. Мы шли маршем на Гродно, где нас должны были бросить в бой. Справа и слева подступали болота. Целая танковая бригада русских, предположительно где-то справа, но такого рода вещи никогда не увидишь. (Видишь только комаров – их в избытке – и ощущаешь пыль.)
Наконец вечером проселочными дорогами мы вошли в деревню и по таким же дорогам прошагали через Липск. Повсюду клубы пыли поднимались в воздух и медленно клубились за колоннами вдоль дорог.
Дорога на Кузницу вся засыпана песком, разбита, изрезана колеями, и на ней полно воронок от снарядов. Она спускается вниз, как дно высохшего моря. С трудом форсированным маршем пересекаем склоны, иногда путь вьется змейкой. Наверное, это как в наполеоновскую кампанию. Ночью мы останавливаемся где-нибудь среди песков. Свежо, и идет дождь. Мы, дрожа, заползаем под автомашины. Утром продолжаем движение, грязные и пыльные, со струйками стекающего пота. Кузница. По сторонам узкой дороги, по которой мы шагаем, расположены три кладбища – католическое, православное и еврейское. Первая на нашем пути православная церковь с ее луковичными куполами. Между тем однообразная равнина сменилась прелестным парковым ландшафтом. Сады, раскинувшиеся вокруг домов, скромное притязание на красоту, незатейливые украшения на домах и – фруктовые деревья.
Это местечко частично подверглось разрушениям. Выгорел целый квартал. В одном из домов уцелели кухня и кусок трубы. Мужчина и женщина ползают вокруг нее, и из этого уголка идет дымок. Старик в тулупе с босыми ногами сидит на стуле, счастливо нам улыбаясь. Его красный нос любителя спиртного выделяется на фоне жидкой неухоженной бороды.
Через час мы вышли на приличную твердую дорогу, двигаясь по направлению к Н. С нами шла легкая артиллерия; лошади и орудия, приближавшиеся к вершине подъема, через которую мы перевалили, выглядели как вырезанные из бумаги фигурки. Не жарко. Слегка холмистая равнина и без пыли. Чудесное утро. Крытые соломой деревянные дома, может быть, и были ветхими, но деревенская церковь белела и блистала на холме наглядным символом своей власти.
Этот марш больше утомляет, чем бой. Полуторачасовой отдых: от часа тридцати минут до трех. Позднее, когда мы шли на марше, луна была у нас за спиной, а мы направлялись к темному, угрожающему небу. Это было как шагать в темную дыру; призрачный ландшафт был блеклым и голым. Мы час проспали как убитые и встали на нетвердых ногах с ужасной тяжестью в желудке. Нежное утро. Бледные, красивые цвета. Просыпаешься медленно, а на каждом привале спишь. В любое время при продвижении вперед можно видеть солдат, спящих у обочин, там, где они опустились на землю. Иногда они скрючиваются, как мертвые, или же, как пара мотоциклистов, которых я видел этим утром, счастливы тем, что сами по себе, спина к спине, отдыхают в длинных шинелях и стальных касках, расставив ноги и засунув руки в карманы.
Мысль о том, что нужно вставать, с трудом проникает сквозь дурман сна. Пробуждение заняло у меня много времени. Когда я будил своего соседа, он продолжал лежать в положении откинувшись назад с совершенно безжизненным лицом. Я подошел к другому, выполнявшему обязанности часового, у него были глубокие морщины на лице и лихорадочно блестевшие глаза. Еще один начал писать письмо своей девушке и заснул за этим занятием. Я осторожно вытащил лист; он не смог написать и трех строчек.
13 июля 1941 года. Двинулись в 16.30 как раз перед грозой. Мы ужасно потели. Гроза налетела грохочущей пеленой. Это облегчение, но духота не исчезла. Четыре часа мы шагали в неимоверном темпе без остановок. Даже после этого нас обманывали каждый раз, когда мы останавливались отдохнуть; мы двигались дальше почти сразу же. С наступлением ночи нам дали отдохнуть всего три четверти часа.
Ночь. С холма, где мы стояли, нам были видны огни, рассыпавшиеся далеко на горизонте. Сначала я подумал, что это заря. Желтая пыль зависла вокруг как туман, лениво расходясь в стороны или окутывая придорожный кустарник.
Когда на горизонте красным шаром поднялось солнце, у нас возникла проблема с тягловой силой. При слабом свете фургон нашего пункта воздушного радионаблюдения – гигант на огромных колесах, служивший когда-то полевой фуражной дачей французов, – сошел с бревенчатого настила дороги. Лошадь запуталась в постромках, а две другие, которых вели по настилу впереди, чтобы проторить дорогу, завязли в болоте и запутались в проводах полевой связи. Чертовщина какая-то. С помощью свежих лошадей и еще одной пары им в помощь мы вызволили застрявший фургон и поспешили за своей частью. Мы нашли своих скорее, чем ожидали, – в нескольких километрах впереди, в лесу у озера. Весь лес был заполнен войсками и штабелями боеприпасов, занявших все свободное место до последнего квадратного метра. Мы разогрели обед и разбили палатку, а когда заползли внутрь, пошел дождь. В маленькую дырку в брезентовом верхе капли дождя просачивались, попадая мне на лицо, но погода была все еще душной, так что это мне даже нравилось. Кроме того, я очень устал.
Утром спустился к озеру. Вода была теплой. У меня было время, чтобы постирать нижнее белье, которое уже приобрело серо-землистый цвет.
16 июля. Продолжили движение в 14.00. Мы шагали до дрожи в коленях до самого пункта Л. Он был уже совсем близко, а нам ужасно хотелось пить. В деревне одна из наших лошадей потеряла подкову. Разразилась гроза, и я вместе с другими задержался, чтобы найти кузнеца в одной из следовавших сзади батарей. Наш собственный кузнец остался далеко позади, чтобы починить полевую кухню, у которой сломалась задняя ось.
Мы нашли кузнеца. Кое-кто из ребят дал нам хлеба, чаю, сигарет и сигаретной бумаги, и мы поехали в сгущавшиеся сумерки и в новую грозу. Лошади продолжали шарахаться из стороны в сторону, не различая пути. Наконец через час мы вышли к тяжелым силуэтам орудий на краю дороги, отставших от части. Под дождем темные фигуры притулились у машин или лежали под ними странно выглядевшими грудами. Я нашел всех своих спутников лежавшими под деревьями. Они крепко спали, а лошади склонили головы на шею друг дружке. Между пятью и шестью утра мы вышли в назначенный для отдыха район на лугу, чуть выше одной из деревень. Подъем был в полдень, в четыре часа – в путь. Четыре часа марша в мокрых ботинках. К вечеру стало прохладно. Дорога поднималась и опускалась при однообразном ландшафте, а издалека доносился шум стрельбы. У дороги виднелись воронки от бомб. К 2.20 мы свернули на участок, поросший травой.
Холодно и сыро при противном пронизывающем ветре. Мы набрали мокрого сена и соорудили палатку. У кого-то нашлась свеча. Теперь, когда мы влезли внутрь, неожиданно стало вполне уютно: четыре человека, удобно устроившихся в укрытии вокруг дружелюбного теплого света. Кто-то сказал: «Мы не забудем этот вечер», и все были согласны.
20 июля 1941 года. Сегодня ровно четыре недели. С тех пор, как мы пересекли границу Германии, преодолели 800 километров; после Кульма – 1250. На восемнадцатую ночь точное расстояние от пересечения дорог в Штанкене, где нас собрали для того, чтобы мы двинулись в направлении Граева и Осовца, равнялось 750 километрам.
Я сижу на скамейке у домика паромщика. Мы ждали остальных из нашей части, чтобы начать трудную переправу через Западную Двину, которую наша маленькая группа преодолевала верхом на лошадях в течение часа. Рассчитанный на груз в восемь тонн, аварийный мост с односторонним движением не мог пропустить весь поток переправляющихся. У подножия крутого берега толпы военнопленных помогают строить второй мост. Босые люди, из числа гражданских, вымученно копошатся над обломками старого моста, перекрывшего маленькую реку. На переправу может быть затрачено немало часов; руки ста пятидесяти пленных, для того чтобы толкать, – в нашем распоряжении.
Город Витебск весь в руинах. Светофоры повисли на трамвайных проводах, как летучие мыши. С ограды все еще улыбается лицо на киноафише. Население, большей частью женщины, деловито бродит между руин в поисках обуглившихся досок для костра или брошенной утвари. Некоторые улицы на окраинах остались неповрежденными, и то и дело как по волшебству встречается уцелевшая маленькая лачуга. Некоторые девушки одеты довольно красиво, хотя иногда на них фуфайки, в руках авоськи, а ходят босыми и с узлом за спиной. Там были крестьяне из сельской местности. У них овчинные тулупы или ватные куртки, а на головах у женщин платки. На окраинах живут рабочие: бездельничающие молодые люди и женщины с наглыми физиономиями. Иногда поражаешься при виде человека с красивой формой головы, а потом уже замечаешь, как бедно он одет.
Приказ продолжить наш марш был отменен в последний момент. Мы остановились и ослабили упряжь. Затем, когда собирались уже задать лошадям четверть нормы овса, пришел новый приказ. Мы должны были выступить немедленно, двигаясь ускоренным маршем! Переправа для нас была очищена. Мы двинулись назад, сначала на юг, в главном направлении на Смоленск. Марш оказался мирным, правда, по жаре и в пыли, но всего только на восемнадцать километров. Но после легкого дня перед этим напряжение и усталость заставили меня забыть о красотах ландшафта. Мы прикомандированы к пехотной дивизии, которая выдвигалась еще дальше на восток; и действительно, мы шагали днем и ночью и продолжаем шагать.
Перед нами расстилались поля тихо колышущейся кукурузы, гектары ароматного клевера, а в деревнях – вереницы потрепанных непогодой крытых соломой хат, белая возвышающаяся церковь, которая использовалась и для других целей, а сегодня в ней вполне могла разместиться полевая пекарня. Можно увидеть выстроившихся в очередь к нашей пекарне за хлебом местных жителей под руководством улыбающегося солдата. Можно увидеть вопросительные взгляды пленных, которые под строгим взглядом конвоя снимают пилотки. Все это можно увидеть, но только в полудремотном состоянии.
В 2.00 я разбудил передовую группу, спустя полчаса – весь отряд. В половине пятого мы тронулись в путь. Сейчас половина шестого вечера 26 июля. Я лежу потный и в пыли на обочине дороги у подножия холма. Отсюда нам предстоит пройти протяженный открытый участок дороги. Вдали слышен гул. После Суража активизировала действия авиация, целые экскадрильи наших пикирующих бомбардировщиков, эскортируемые истребителями, совершали налеты на противника. Вчера три русских бомбардировщика кружились над нашим озером, после того как сбросили в нескольких километрах отсюда свой бомбовый груз. Прежде чем они скрылись из виду, мы видели, как наши истребители со свистом пронеслись за ними, садясь им на хвост, и пулеметы застрочили в жарком полуденном воздухе.
Несколько дней назад нам попадалось все больше и больше беженцев, затем на дорогах стало менее оживленно, и мы миновали лагеря для перемещенных лиц, в которых было от тысячи до тысячи двухсот пленных. Здесь не что иное, как линия фронта. В деревнях огромное число домов покинуто. Оставшиеся крестьяне таскают воду для наших лошадей. Мы берем лук и маленькие желтые репки с их огородов и молоко из бидонов. Большинство из них охотно делятся всем этим.
Мы продолжили движение по дороге, соблюдая интервалы. Далеко впереди, на краю леса, поднимаются грибообразные клубы дыма от взрывов снарядов. Мы свернули, прежде чем дошли до этого места, на вполне сносную песчаную дорогу, которой, казалось, не будет конца. Наступила ночь. На севере небо все еще оставалось светлым; на востоке и на юге оно освещалось двумя горящими деревнями.
Над нашими головами бомбардировщики выискивали цели и сбрасывали бомбы вдоль главной дороги позади нас. Мои всадники тряслись и покачивались в седлах на своих лошадях. В половине четвертого мы стали поторапливаться; в четыре наш фургон заспешил на командный пункт. Сейчас семь часов, и я лежу тут, несколько позади него, с двумя развернутыми секциями радиостанции наготове.
Спокойная обстановка в послеполуденные часы. Мы проснулись и поели, опять легли спать, а затем были подняты по тревоге. Тревога оказалась ложной, и мы продолжали спать. Внизу через луг под конвоем переправлялись в тыл взятые в плен русские. При вечернем свете все кажется таким дружелюбным.
День выдался прекрасным. Наконец у нас появилось немного времени для своих личных дел. Война идет с перерывами. Никаких решительных действий. Противотанковая пушка или танк открывает огонь – мы отвечаем своими минометами. Пушка издает неприятные вздыхающие звуки. Затем после нескольких выстрелов – тишина.
Наши батареи интенсивным огнем обстреливают наблюдательный пункт противника, и русские «угощают» нас несколькими снарядами. Мы жуем свой хлеб и наклоняемся, когда начинает играть «музыка». Можно заранее определить, откуда она доносится. Наверху на холме адъютант сообщает: «Танки атакуют тремя колоннами по фронту, господин гауптман!» – «Передай артиллеристам!» – отвечает капитан и спокойно заканчивает бритье.
Примерно три четверти часа спустя танки идут на нас массой; они так близко, что заходят в тыл нашего холма. Обстановка становится довольно напряженной. Два наблюдательных пункта сворачиваются и уходят, командный пункт отряда и штаб-квартира батальона остаются. Тем временем наша пехота снова выдвинулась к горящей деревне. Я лежу в воронке на холме. В ситуациях, подобных этой, всегда испытываешь удовлетворение оттого, что видишь то, что отделяет зерна от плевел. Большинство испытывает страх. Лишь немногие остаются веселыми. И это те, на кого можно положиться.
30 июля 1941 года. Прошлой ночью мы видели световой сигнал, который подавали наши, примерно в двадцати километрах отсюда. Кольцо вокруг Смоленска сжимается. Обстановка становится спокойней.
В основном из-за медленного продвижения германской пехоты по труднопроходимой местности значительное число советских войск фактически избежало окружения. С их помощью была возведена линия обороны на Десне, которая тем самым подвергла наступающих немцев первой настоящей проверке.
Отступая, русские поджигают за собой свои деревни; пожары полыхали всю ночь. До полудня сегодняшнего дня мы имели возможность увидеть фонтаны вздымаемой вверх грязи при разрывах тяжелых снарядов. Армейский корпус вступает в бои, двигаясь с юга на север. Враг оказывает отчаянное сопротивление; в лесу вновь свистят пролетающие снаряды. Ближе к вечеру мы были готовы сменить позицию, двигаясь на восток. Котел окружения, того и гляди, будет разбит. Когда стемнело, мы спустились от холма и прокатились двенадцать километров на восток по автостраде. Это была широкая, в хорошем состоянии дорога, на которой там и сям попадались развороченные танки и грузовики. Мы направляемся прямо к середине «котла», к новому фронту, который уже виднеется на горизонте.
Шагали всю ночь. Огонь двух пылающих деревень мягким светом отражается на синевато-серой облачной гряде, все время разбиваемой грозными вспышками взрывов. Всю ночь напролет не умолкал низкий раскатистый грохот. Затем к утру облачная гряда приобрела бледный розовато-лиловый оттенок. Цвета отличались странной красотой. Постепенно сонливость ушла из тела, и мы снова были готовы действовать. Достали стальные каски и шинели. Через два часа мы должны были быть готовы к бою; атака намечена на 6.00.
19.00. Конец суматохи дня. Через маленький сектор обзора невозможно получить общую картину, но кажется, что русские моментально отрезали нам дорогу, по которой осуществлялось снабжение, и оказывали значительное давление на нашем фланге. Во всяком случае, мы быстро отходили по дороге, которая до этого была такой спокойной. Совсем близко мы увидели впереди ведущие огонь наши батареи, которые обстреливали склон холма и деревню снарядами бризантного, ударного и замедленного действия. В то же время со всех сторон со свистом пролетали гильзы пехотинцев. Поставив свои машины в ложбине, мы пошли на опушку небольшого леса, в котором было полно штабных офицеров. Даже там не следовало высовываться без нужды.
В такие моменты я не любопытен. Все равно ничего не увидишь, и в любом случае для меня не имело значения, насколько далеко они вклинились в наш фланг. Я знал, что, когда они подойдут на достаточное расстояние, у нас еще будет возможность «перекинуться парой слов» друг с другом. А до этого времени я собирал землянику и лежал на спине, надвинув на лицо стальной шлем, – положение, в котором можно прекрасно поспать, максимально прикрывшись. Мы были в нескольких метрах от генерала и нашего командующего дивизией. Поразительно, в каких ситуациях могут оказываться высшие офицеры при таком размытом фронте, как этот.
На фронте всем без исключения запрещали вести дневники, так как автор мог записать информацию, составляющую военную тайну. И вероятность попасть в плен тоже была достаточно высока. Письма и записи перлюстрировались сотрудниками НКВД. Поэтому слишком мало сохранилось рукописных воспоминаний солдат, отправившихся на фронт. Но потертые тетради с заметками - свидетели того страшного времени, хранятся в семейных архивах. Одну из таких корреспондент РП нашел в Пензе у родственников старшего лейтенанта Александра Столярова.
«Стал калекой, не увидев немцев»
Александр Павлович Столяров вел записи между боями. Призванный на фронт в конце июня 1941 года, он дошел до Эльбы. В тетради в коричневом переплете он писал о том, что видел на войне, описывал быт и переживания солдат. РП публикует выдержки из дневника.
«Сообщение о начале войны встретило нас на Шуистском мосту. В этот памятный день, 21 июня, мы впервые в 1941 году всей семьей отправились в лес. Было хорошее солнечное утро, а во второй половине дня пошел дождь, и прогулка была испорчена.
Вымокшие и недовольные возвращались мы домой. Впервые услышанное слово "война" не доходило до глубины сознания до тех пор, пока во дворе нас не встретила с истеричными воплями мать. Для матери это слово говорило о многом - она пережила ужасы Первой мировой, перенесла на плечах тяжести гражданской войны. Война отняла у нее мужа, а теперь она должна отдать в жертву трех сыновей.
Столпившиеся у уличных репродукторов люди с жадностью ловили слова В.М. Молотова: "Враг вероломно напал на нашу Родину". Этот враг рисовался мне в виде семиглавого чешуйчатого чудовища из книжки детских сказок - оно распростерло свои огромные перепончатые крылья над землей, закрыв собой Солнце.
Через неделю: "Повестка военнообязанному Столярову Александру Павловичу. Предлагаю вам 30/ VI к 7 ч. утра явиться на сборный пункт Пензенского городского военкомата…"
Отряды формировали в Татищевских лагерях около Саратова. За 10 дней обмундировали, вооружили, снарядили, кое-чему обучили, погрузили в вагон и повезли. Самые ожесточенные бои шли на Смоленском направлении».
Прибыв на место и спрятавшись в лесу, солдаты приготовились к первому бою.
«Жадно прислушивались мы к рассказам бойцов, вышедших из окружения, чистили оружие (здесь следует сказать, что винтовки нам привезли ночью с передовой) тренировались в метании гранат, в стрельбе из пулемета. Когда наступили сумерки и по небу зашарили лапы прожекторов, а в просветы между деревьями молниями засверкали вспышки сигнальных ракет, мы молча вышли из леса и направились на передовую.
Двигались медленно, часто останавливались в ожидании донесений дозора. Ночь темная, где-то далеко в почерневшее небо упиралось зарево пожарища (немцы имели обыкновение ночью поджигать дома для освещения местности)... Изредка слышались одиночные выстрелы. Последние десятки метров до исходного положения ползли. Быстро окопавшись, я малость вздремнул, а когда очнулся, было уже светло.
Выстрелов не было слышно, и, закрыв глаза, можно было представить себе мирный деревенский пейзаж, фактически же перед взором предстали остатки разбитой деревни - покосившийся плетень, полуразрушенный амбар и печные трубы, торчащие из развалин».
Русские солдаты должны были закрепиться на новом рубеже. Автору дневника этого сделать не удалось - в том бою его ранили в правую руку.
«Было до слез обидно, что, не сделав ни одного выстрела и даже не увидев ни одного живого немца, я стал калекой. Сейчас я ношу почетное имя "фронтовик", и, по совести сказать, мне стыдно признаться перед товарищами в том, что на фронте том пришлось мне побыть всего лишь одни сутки».
Дневник лейтенанта Александра Столярова. Фото: Алина Кулькова/ Русская Планета
«Пионеры забросали нас цветами»
Александра Столярова ждали эвакуация вглубь страны и залечивание ран.
«От перевязочного полкового - 8 км, для меня они оказались длиннее 100. Отдыхать приходилось буквально через каждые 100 шагов, хотелось пить, лечь и уснуть, но мой спутник с простреленной кистью руки неумолимо тащил дальше, подбадривая тем, что на большаке нас подвезут.
Так и получилось - транспорт боепитания подвез нас до медсанбата, там накормили, перевязали и повезли в дивизионный эвакогоспиталь. Здесь снова - осмотр перевязки, вливания. 120 км тряслись по Смоленскому шоссе - когда-то это была автострада, а теперь для нас это было автострадание - все изрыто воронками, захламлено автомашинами и повозками (разбитыми), вздувшимися трупами лошадей и остовами сгоревших самолетов.
В Вязьме пионеры нас забросали цветами, упал ко мне на колени букет, собранный ласковой детской рукой, и почему-то к горлу подкатил ком, и на глаза навернулись слезы.
Двое суток пролежал в осиннике на окраине города под открытым небом в ожидании очереди на дальнейшую отправку, рискуя попасть под очередную бомбежку. Здесь сортировали раненых на три категории: "БВ" оставляли долечиваться на месте, "тыл" вывозили в центральную часть и "глубокий тыл" отправляли в госпитали Сибири и Урала - я был отнесен к последней категории.
…Госпиталь, в котором нас разместили в Томске, был расположен на берегу реки Томи. Богатейшая библиотека института была в нашем распоряжении, и, пользуясь вынужденным бездельем, я за три месяца прочитал много полезных книг.
В палате нас было 25 человек, и вечерами, когда выключали свет, я рассказывал прочитанное своим сожителям. Приходили дежурные сестры и врачи. Слушали внимательно, относясь к рассказчику с уважением, лишь изредка в особо чувственных местах раздавались возгласы или реплики».
После выздоровления комиссия определила Александра Павловича к дальнейшей службе в РККА.
«А вот у нас в полку…»
Из-за ограниченных функций правой руки Столярова признали нестроевым и определили писарем в запасной полк. Он располагался в землянках в березовой роще на берегу Иртыша. Ели и спали на тех же столах, на которых работали, причем отдыхать приходилось четыре-пять часов в сутки, а работать все остальное время.
«Все лето прошло в напряженной учебе и подготовке к предстоящей операции, только в начале февраля 43-го выехали в действующую армию в район Старой Руссы - Демьянска.
До станции "Осташково" передвигались поездом, а затем пошли своим ходом на исходное положение. 10 суток ползли на монгольских кобыленках по болотам и лесам Калининской области (ныне Тверская область. - РП). Ночевать заходили в уцелевшие деревни. С каким радушием встречали нас жители, испытавшие на себе все "прелести" гитлеровского "Нового порядка"! Нам уступали лучшие - теплые места в хате; матери предлагали молоко, предназначенное для детей; старики охотно рассказывали, как нам лучше проехать и далеко за село выходили проводить; ребятишки тут же кружились, оказывая мелкие услуги бойцам и рассказывая про немцев. Утром мы получали хорошо просушенные валенки, портянки и рукавицы.
Вечером 18-го февраля наконец-то мы перешли на походное положение и расквартировались в деревне Теляткино. Деревня была пустая - жители из прифронтовой полосы были эвакуированы в тыл, а мы по-домашнему устроились в просторных теплых избах.
Задымились крестьянские бани, повара суетились около кухонь, сапожник зашивал кому-то оторвавшуюся подметку, старшина распекал заспавшегося неряху. И все же фронт был близко, и тот, кто забыл об этом, крепко поплатился за свою беспечность.
Часов в 10 утра в воздухе появилась пара немецких самолетов. Солдаты, любопытствуя, выскочили на улицу, тем самым обнаружив себя.
Немцы прошлись над деревней и сделали разворот. Заметив этот маневр, я понял, что сейчас начнется бомбежка, но ни бомбоубежищ, ни щелей приготовлено не было, и единственным спасением было срастись с землей и ждать.
От мирного пейзажа не осталось и следа: с двух домов как бритвой сняли крыши, а у одного дома оторвало угол, и видна была топящаяся печь. Как муравьи забегали люди, со дворов слышались стоны раненых, фельдшер в окровавленном халате бегал из избы в избу, оказывая первую помощь.
8 убитых и 9 раненых из нашей роты - вот печальный итог беспечности».
Автор дневника в той атаке получил два ранения в ногу. Для него снова начались мытарства по пересыльным госпиталям, но теперь в более трудных условиях суровой зимы и ограниченности в самостоятельном передвижении.
«Семь пересыльных госпиталей, и каждый переполнен, каждый старался как можно скорее отправить дальше, и редко где интересовались состоянием ран.
…Всех обитателей госпиталя можно разделить на три группы:
Ходячие - главным образом выздоравливающие - это наиболее подвижный народ, днем отсыпаются, режутся в карты, а по вечерам совершают набеги на окружающие деревни в поисках развлечений.
Новички - вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе они рубились. Это загипсованные и забинтованные, с "Балалайками", "Самолетами", костылями - малоподвижные люди лежат и с утра до вечера под впечатлением только что пережитого рассказывают:
– А вот у нас в полку...
– А вот под старой Руссой было...
– Это что, а вот у нас случай был...
Обычно неторопливая речь рассказчика изобилует такими выражениями:
– Катюша заиграла...
– Лука как долбанул...
– Я ему: "Хен де хох", - а он уж со страху подох.
Третья группа - самая малочисленная и спокойная: это шахматисты, шашисты, бумагомараки, чтецы».
Послесловие
Войну Александр Столяров закончил на Эльбе. Первое мая 1945 года встречал на южной окраине Берлина, в апреле был у Франкфурта на Одере, в марте - у Кенигсберга. Домой, в родную Пензенскую область, вернулся в звании старшего лейтенанта.
Юрий Номофилов, победитель. Германия, 1945 год.

1940 год, Рыбинск. Окончен 10-й класс…
Первый слева – Юрка Белов, сын преуспевающего дамского парикмахера. Призван в армию в 1940 году, погиб в 1945 году под Берлином.
Вторая слева: Надя Булочкина. В войну работала на окопах, после войны – начальником планового отдела завода.
В центре Гришка Поповер, спортсмен, предмет воздыханий девчонок. Призван в армию в 1940-м, погиб в 41-м в первом же бою где-то в Белоруссии.
Четвёртая слева: Ниночка Журичева. Во время войны была артисткой оперетты.
Справа – это я, Юрка Номофилов. Призван в армию в 1940 году. Повезло – не убили. Дошёл до Берлина.

Юрий Номофилов, победитель. Германия, 1946 год.

Хельга. Берлин, 1947 год.

Это мы с Хельгой. Счастье!
Берлин, 1946 год.


Уже мирное время – 1949 год. Какой-то праздник во Дворце культуры Рыбинска (в то время он назывался Щербаков). Я третий слева, чуть выглядываю.

Ветеран.
Уважаемые читатели! Перед вами – совершенно уникальный текст. Это личные, интимные дневники молодого солдата Великой Отечественной войны. Начал он их вести в 1942 году, когда ему было 20 лет, последняя запись сделана в 1949 году
С 1959 по 2000 год этот документ хранился в органах госбезопасности как вещдок по делу его автора – Юрия Номофилова - о «попытке измены Родине». Уже в перестроечные годы Юрия Алексеевича реабилитировали, а в 2000 году вернули дневники – две заветные книжечки.
Что мы знаем о тех, кто был на войне, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков? Яркие образы, созданные художественной литературой и кинематографом, военные фотографии и кинохроника, фронтовые письма, воспоминания фронтовиков – всё это, конечно, выстраивает какую-то картину, но дневниковые записи Юрия Номофилова создают потрясающий эффект полного присутствия, хотя он и не воевал на передовой (был авиатехником). Они удивительным образом сцепляют, объединяют разные поколения – то, военное, и наше, для которого война превратилась в легенду. В стариковских лицах ветеранов войны мы начинаем видеть понятных и близких себе людей, у которых в молодости, несмотря на войну, были те же чисто возрастные проблемы, что и у нас. Которые думали не только о «защите Отечества», о «подвиге» и о «борьбе с врагом». И далёкая война начинает приобретать для нас черты повседневной жизни – без лоска, глянца и художественного вымысла.
Молодой солдат, вчерашний школьник Юрий Номофилов вёл записи исключительно для себя, не думая ни об «идеологии», ни о «красоте слога», ни о «приличиях», ни о каких-либо последствиях. Именно это делает его дневники уникальным и бесценным документом Великой Отечественной войны и, вообще, той эпохи.
В альманахе публикуется интервью с автором и текст дневников с несущественными сокращениями, но с сохранением всех его специфических особенностей, в том числе и ненормативной лексики. Также оставлены пометки, сделанные в органах госбезопасности (в тексте они выделены вот таким полужирным шрифтом): по всей видимости, эти строки (в оригинале дневника подчёркнутые простым и коричневым карандашом) означают, по мнению органов, подозрительные, антисоветские и враждебные мысли.
Все материалы используются с разрешения автора.
Денис Маркелов
ПЕРВЫЙ ДНЕВНИК
29.02.42 г. (переписываю осеннюю запись).
С пригорка виден чистенький Чистополь: белые домики и минареты в желтизне парков и садов. Кругом дубовые рощицы, тоже желтеющие, голые поля, а вдали берега Камы. Осенние облака грядами бегут на юг, то заслоняя солнце, то открывая его, и тогда всё оживает и сверкает жёлтым, белым и голубым. Стоять бы вот так над незнакомым городом после длинного перехода, свободному и сильному, думать, что впереди в этих домиках живут люди, с которыми будешь дружить, работать, веселиться и отдыхать. Может, среди них та, милая и замечательная, из-за которой сердце забьётся сильнее и закружится голова, когда наклонится девушка и в прорезь на груди увидишь тело её – желанное и священное. Стоять бы вот так, молодому и красивому, а у ног город – город, ждущий завоевателя. Неужели не будет так? Так будет, будет, будет! Зачем же и жить тогда, если всегда чужая воля висит над головой, если всегда нужно подавлять желания и загонять обратно мысли? Так должно быть, и будет! Ведь есть же где-то свобода и счастье?
...А может, и нет нигде таковых... Гудят над головой провода...
Нужно идти на кухню. Ведь я в наряде, рабочий.
Я в Казани после путешествия по Волге из Сталинграда (это мы с зимнего сачкования в Будённовске перебрались поближе к жизни). По дороге приволочился за евреечкой - Боней. Так, немножко платонических вздохов и держания за руку: даже обнять не далась.
А в Будённовске втрескался в некую Нимфу Бибич - эвакуированную из Днепропетровска. У неё исключительно стройненькая (по моим понятиям) и тоненькая фигурка. Вначале бегал на неё любоваться издали, не смея и мечтать о знакомстве. Но потом, как ни странно, дошло до поцелуев, и у меня кружилась голова, когда видел близко-близко перед собой хорошенькую её мордочку и улыбку - жемчужные зубки. На третий вечер она не пришла: я её измучил непрерывными объятиями и поцелуями, всю изломал - благо, маленькая, тоненькая и слабенькая. А потом её прямо из десятого класса - 12 мая - забрали в армию, и я встретил её у нас, в красноармейской столовой. Она оказалась не такой, какой я рисовал её в мечтах: проще и вульгарнее. Любит танцевать, любит романчики и прочее. Сначала грустил по ней и страдал. Сейчас - забыл.
Была ещё одна - там же, в Будённовске - Тамара Мадатова. Типичное грузинское лицо, длинные косы. Хороша - исключительно. Но фигурка плохая: массивная, без талии. Или мне это казалось в пальто. А перед отъездом видел её в хорошем платье - очень понравилась. И жалею, что променял на Нимфу. Тамара проще и в меня втрескалась.
Сейчас, в Казани, живу неплохо. Через день - лёгкий наряд. Кормят хреново, но хлеба достаём вдоволь. Работы мало. Принимаем машины, вернее, их принимает начальство, техники. А мы по-прежнему сачкуем. Я радиомастер и сам даже не знаю, каковы мои обязанности. Сачкую здорово.
В общежитии просторно, светло. Крыша здания иногда дребезжит, резонируя от шума моторов идущих на посадку самолётов. Их здесь порядком. Скоро получат матчасть – и на фронт. Так долго ждали, что и не верится: как это вдруг мы - и на фронт. Но дело идёт, и приближается час, когда и по нам будут бомбить. Дай Боже пережить...
Лето, тепло, неплохо. Аминь.
14.06.42 г.
Немного поболел с 09.06. Сначала грипп (t 390 C), а потом колит, черти бы его драли. И сейчас ещё бегаю в уборную. Погода испортилась: дожди и холода. Так хорошо сидеть в штабе. Дай Боже подольше так! (Ведь я стал против воли писарем инженерного полка!) Был несколько раз в городе. Проезжал его насквозь, на другой конец, на завод. Как шикарно! Сколько народу! Сколько витрин, шума, блеска, девушек!.. Сколько хитроумных причёсок, сколько тщательно подведённых губок и подбритых ресниц, сколько манящих роскошных и пышных, маленьких и невинных, упругих и сладострастных грудей, сколько возбуждающих жоп, сколько изящных ножек! И всё это для мужчин. Для меня то есть. Правда, не для сопливого солдата в рваных сапогах, но для будущего инженера. Почему бы нет?! Совсем напротив - да!
А ведь каждая девушка одевается, ищет материю для платья, ругается с портнихой, десять раз перешивает, перекраивает, подбирает по цвету чулки и туфли - и всё для того, чтобы я, Номофилов, мог благосклонно посмотреть хорошенькую фигурку, хмыкнуть носом и сказать себе: «Вот эта ничего... Даже хороша. Её бы я, пожалуй, не отказался...»
Но встречаются и такие - юные, нежные и прекрасные, за один ласковый взгляд которой отдал бы всё, что есть и что будет, а за один поцелуй - десять лет жизни. Но они, как и все, проходят, а неуклюжий и неглаженый солдат остаётся один со своими мечтами и грустью.
А пока жизнь волочится по кочкам удач и ухабам неприятностей, по грязи ругани с соседом из-за порции хлеба и по песку, неурядиц со старшиной. Катится...
Ну, и катись к... Туда твою мать!
20 часов.
Ой, где я сижу! В основном – центральном – им. Ленина хранилище библиотеки ТАССР города Казани! Во! Шикарно, аж дух захватывает. Зал оформлен под грот на дне морском. Священная тишина, умная. Масса девушек, и хорошеньких, и кругом книги, книги - море книг.
Как это мне маму напоминает, дом, библиотеку им. Энгельса, как манит назначить здесь свидание! Сердце так и ёкает, нервы напряжены до крайности: ведь я в дивном храме своего бога - мысли.
15.06.42 г. Утро.
Только что, час тому назад, разбился комэск 2-ой АЭ (командир 2-й авиаэскадрильи – Ред.) - Шмонин. С ним вместе погиб и его экипаж - штурман Иконников, и тот, что был стрелком, - Барашевич. Иконников - самый умный и хороший человек в нашей эскадрильи. Жалко, больно, не хочется верить, в сознании не укладывается...
17.06.42 г.
Сижу на губе. Задержал комендант гарнизона за то, что забыл пилотку. А я ужин пошёл получать, на всех. Вот ё. м.! Комендант - молоденький лейтенант. Ну и щенок!
До чего глупо! Ё. м.!!!
21.06.42 г. Вечер.
Хочется жрать. Мало, очень мало шамовки. И все мысли сосредотачиваются на пустом желудке. Ох, тошно! Ребята достают, а я не могу. Они говорят: «Жрать любишь, а достать не можешь...»
22 июня 1942 года.
Итак, год войны прошёл. Ровно 365 дней назад, когда Земля была в этой же точке пространства, когда Солнце шпарило на нашу планету под тем же углом, я жил в Ломской... Был митинг, пели «Интернационал», кричали: «Ура!» Ночью пошли в секреты. А через пять дней тикали от немцев, захватив продуктовый склад. То было время обжорства, когда Юрка Номофилов пил целыми банками сгущённое сладкое молоко, жрал белый хлеб с маслом и сгущённый компот в неограниченных количествах. Когда жутко и весело было! Вспоминается, как далёкий сон. Прекрасный и неповторимый. Где ты, где ты, счастливая сытость? Где вы, безалаберные дни? Ох, и пожрали же тогда!..
- А немцы, а танки, а бомбы?
- Да, да, было, помню. Но это было во-вторых. А во-первых - шоколад и консервы. Так-то.
А сейчас жрать по-прежнему хочется, и полученные самолёты угнали на фронт, а мы опять остались «безлошадными». Ходим в наряды (другие ходят, я как писарь не хожу) и снова засели в ЗАПе (запасной авиаполк - Ред.). Боже, неужели 779 авиационный полк никогда не попадёт на фронт? Уже целый год собираемся, ещё из Ломской лётчики мечтали лететь бить немцев. А теперь мечтают бить «ганцев» - вот и вся разница
1.07.42 г.
Прошедшие два дня болел зуб. Первый раз это со мной происходило. То ли с непривычки, то ли это всегда так - чувствовал себя ужасно. Был злой, ругался, кричал - совсем развинтился. А сегодня выспался хорошо - впервые за много дней, зуб прошёл, и чувствую себя прекрасно. Это со мной в последнее время редко бывает.
Только акклиматизировался в штабе, как началась кампания по переводу меня обратно в эскадрилью, работать по специальности!.. Кой х... «по специальности» - в наряды через день ходить! Здесь, при штабе, без этого обходилось, и пошамать дополнительно можно было, и полакомиться. А теперь прощай, тёплое местечко, сытое житьё, снова караулы и полов мытьё. Ох!..
Но всё же и на матчасти поработаем! Может, и на завод съездим, и полетаем, как другие. Ха! Пускай! Всё, что происходит, - к лучшему.
«Всегда можно найти косвенный путь, обойти инстанцию или начальника. Если не выходит - значит, недостаток смекалки» (слова однополчанина автора дневника – Ред.).
Часто ездил на завод №22 - заказывать пропуска для наших принимающих машины техников. И в бюро пропусков узнал девушку, именно такую (как показалось), какую искал. Милую, симпатичную, стройную. Не особенно красива, но так мила! Выпросил у неё адрес - Валя Сергеева. Она мне сказала: «Опоздал». У неё уже есть, кому поверять сердечные заботы и радости, есть, кому говорить: «Милый» между двумя поцелуями. Но я, целиком рассчитывая на будущее, на послевоенное, когда буду свободен и холост, всё же решил взять её адрес. Таких девушек - малознакомых, но хороших, уже есть на примете несколько. И дальше буду набирать так же...
Ха! Неплохая идея.
До чего же я всё-таки легко увлекаюсь! Вот на пароходе, когда сюда ехали, была Боня. Ведь я серьёзно думал, что врезался. По крайней мере, сердцем. А так - понимал, конечно, что глупости.
4.07.42 г.
Хи-хи-хи! А меня из штаба вытурили... Ну, и пускай, не очень и хотелось. Мечтаю съездить на завод. Повидать свою Валюшу... Она здесь, в городе живёт. Чёрт возьми! Четвёртый день болит зуб. Первый раз в жизни - и так крепко прихватило. Хотел сегодня выдернуть, пошёл - но доктор отговорила. Поковырялась в зубе, наложила туда всякой гадости, вонючей и противной, а зуб как болел, так и болит. Всё! Завтра дёргаю к чёртовой матери! А то как на фронте прихватит. А беречь зубы - ещё убьют, а столько мучений ради будущего принял.
Хочется поговорить с кем-нибудь, поболтать, излить свою душу. И нет такого человека, которому можно бы открыть своё сердце, свои мечты, надежды и желания. Женька Беликов, с которым я последнее время дружу, не чуткий парень. Моим будённовским увлечением - Нимфой Бибич - он меня порядком поизводил. Ведь я ему всё-всё рассказывал…
Ах, как хочется девичьего нежного сердца, как хочется положить голову на грудь нежной подруги, как хочется, чтоб кто-нибудь поласкал... Эх!.. И сам не знаю, чего хочется. Нет-нет! Не того, не «пистон поставить», а другого - для души.
Ночь. Сижу в штабе один. Потому так и разболтался.
5.07.42 г.
Хотел что-то такое написать о своём посещении з-да № 22 - самолётостроительного. Но что-то нет настроения писать. Да и сижу в неподходящем месте: в конструкторском отделе з-да. Всё-таки интересно: везде меня пускают. Даже в секретный отдел секретного завода, куда простому смертному входа нет, – пожалуйста!
Ну, в общем, вчерашний день - день моего первого посещения этого скопления людей, машин и шума, внёс в мою голову больше впечатлений, чем полугодовая жизнь в Будённовске. Сейчас я перегружен ими, а когда всё уляжется, опишу и громадный пресс, и вид гигантского сборочного цеха сверху, и контрольный отдел радио - всё-всё.
Конечно, вижу и Валю. Вчера ждал до вечера, думал, она сменится и я смогу проводить её до дому. Но не дождался: комсомольское собрание. Попытаюсь сегодня. Она мне мило и ласково улыбается и вне закона выписала пропуск. Это такой тип девушки, которая нравится тем больше, чем дольше видишь её. Обидеть или оскорбить такую девушку невозможно. Термин «милая» подходит для неё с добавлением: «исключительно». Потому так много пишу, что только сейчас был там, у них, выписывал сюда пропуск. Она так мило коверкает мою фамилию, говоря «Нимафилов», что хочется так называться.
9.07.42 г. Перед отъездом из Казани. Утро.
Вещи уже вынесены, в пустом помещении стоит пыль коромыслом: уборка.
Большинство улетело, нас осталось мало, а вещей много. Настроение радостно-тревожное и торжественное. Наконец-то час, которого ждали больше года, торжественный час отправки на фронт - наступил.
Даже обыденно, и не волнует.
Прощай Казань, завод, бюро пропусков и Валюша! Да, Валюша. Я с ней позавчера утром шёл на завод пешком - трамваи не ходили. Говорили много. Результат: она не для меня, она неизмеримо выше меня по воспитанию. Она жила в Москве! Мне о такой жизни и не мечтать... Еду на вокзал. Прощай, Казань! Здравствуй, дорога! Снова в путь.
11.07.42 г. В пути. Станция Алатырь.
Больше стоим, чем едем. Дорога забита, и наши три вагона пихают то туда, то сюда, то дают специальный паровоз. Вот и сейчас через полчаса ждём паровоза. Скоро поедем через Атяшево - место, где я жил летом 1935 года у папы в совхозе, и Саранск, где и сейчас обитают наши родичи.
Жарко. Хлеб есть, но больше ничего. Но и так не пропадаем. Еду в вагоне управления - просторно, 9 человек, и спокойно, а наши надоели: всё время шумят и ругаются.
Вспоминаю Казань и Валю, нашу с ней прогулку 8-го утром. Тогда я её подождал у ворот её дома, прошёл с ней до завода много километров - не ходили трамваи. Я дороги не заметил. Всё время разговаривали. Она мне ещё больше понравилась, я ей - нет. Валя кончила на «отл.» десятилетку, любит читать, не особенно увлекается танцами, но она принадлежит к несравненно более высокому кругу, чем я. Порода и воспитание видны в каждом её слове, в каждом движении, жесте. Мила и обаятельна до бесконечности.
Её протеже - тридцатилетний мужчина, работник отдела кадров и поэт. Она любит его и слушается... Сяду писать мамане и Тоне.
12.07.42 г. Ст. Рузаевка.
Жарко. Делать нечего, но не скучно. В Саранске ходил к родичам - Козловым. Моя племянница - Люся Козлова - хорошенькая семнадцатилетняя девушка. Хи-хи-хи!
Ох, Валюша! Ты вошла в моё сердце. Ничего, авось поднимемся и до Валюши. Всё может быть.
17.07.42 г. Вечер.
Второй день стоим на ст. Платоновка близ Тамбова. Это конечный пункт. Здесь должны находиться наши. Но их нет - улетели в Сталинград. И вот мы, не вылезая из своих трёх телячьих вагонов, поедем назад в Саратов. А потом (ха!) по Волге до Сталинграда.
19.07.42 г.
Сижу один в вагоне, который уже называется «наша хата» и служит синонимом дома.
Город Кирсанов. Ну конечно, он напоминает мне Нину, Ninon, Konsuello (имя героини из одноимённого романа Жорж Санд - Ред.). Второй раз его проезжаем, и второй раз я снова грущу по Нине. Они похожи - Валюша и Нина, и обе потеряны для меня. Какая лучше? Ох, дурак! Не всё ли равно?..
Сейчас пришёл с базара, где маклачил 4 селёдки, спрашивая за каждую 50 рублей. Не удалось. Лишь одна молочница разошлась - купила. Вторую рыбину сменял на стакан мёду, который тут же слопал с хлебом, любезно предложенным продавщицей. Оставшиеся две селёдки променял на масло.
Да, ведь еду не со своими, а в вагоне управления. Шамаю неплохо, по крайней мере, не хуже, чем начстрой, едущий тут же. Тем более что я совершаю здесь различные тёмные махинации: продаю хлеб, меняю селёдки на масло, покупаю молоко. Распоряжаюсь сотнями, но мало толку. Литр молока - 20 рублей, стакан виктории -15. А сотня равна 10 рублям 1939 года. К базару привык, торгуюсь, как заправский жид. (Ох, не люблю жидов!)
Перегон «Платоновка - Кирсанов»: в одном с нами эшелоне ехали девчата - оружейники, окончившие ШМАС (школа младших авиаспециалистов - Ред.). Призваны в армию два месяца назад. «Ничего, - говорят, - жить можно. Пока не жалуемся на службу».
Обленился я страшно. Десять дней дороги ничего не делаю. А переезду конца не предвидится… Скоро прибудем в Саратов и уж, наверное, в Волге искупаемся. С парохода! Ух!!!
22.07.42 г.
Едем по дороге «Урбах – Сталинград». Путешествие «Саратов - вниз по Волге» накрылось. В Саратове не отцепили от эшелона, и мы с тремя вагончиками с лётным составом едем по заволжским степям. Зной. Ровная, как по ниточке, дорога, чистый степной горизонт, коршуны, марево.
Крутим патефон на остановках, смотрим, свесив ноги за дверь, на степь во время хода поезда. Мухи. Жарко.
23.07.42 г.
Ух! Всё едем. Оказывается, товарные поезда больше стоят, чем едут. За 13 суток нашего путешествия (300 часов) стоим 240 часов, едем 60, не считая мелких остановок, которых часов на 30 набежит.
Писать неудобно, не хочется. Повидать бы Веню в Сталинграде.
24.07.42 г.
С утра переправляемся на железнодорожном пароме через Волгу. Жарко. Погода дивная. Три раза купался. Снова Волга, дорогая красавица Волга! Сейчас искупался и ждём: эшелон отправляют в Сталинград.
27.07.42 г.
Позавчера приехали на место - станцию Конная: на пути от переправы к Сталинграду, километров за двадцать от города. Живём в землянках, едим неплохо, а в наряд я уже вчера пошёл. Скучно. Совсем отвык писать. Чувства всё те же - по-прежнему восхищаюсь полной луной, тихой и прекрасной ночью царицынских степей, восходом солнца. Но впечатления быстро гаснут, и писать о них как-то некогда и не соберёшься. Столько дорожных впечатлений, событий, происшествий! На одной остановке перед Волгой, в степи, ходили купаться на Ахтубу. Случайно узнали, что на другом берегу сады, ждущие потребителей. Переехали туда и с яблонь, сплошь усеянных зрелыми плодами, нарвали по полной гимнастёрке. Нажрались - здорово. Понос - до сих пор. И купались тогда замечательно. Тут тоже место для купания есть, и не плохое...
Всё чаще и чаще встречается необходимость упоминать имена своих товарищей. Это значит, что я уже перешёл из своего бывшего гражданского мира в действительность, в мир армейской жизни. Придётся писать характеристики наиболее близких (да это и полезно), чтобы в дальнейшем свободно оперировать их именами.
Да стоит ли? Похоже, ураган войны раскидает нас. Ходят мрачные слухи, что вскоре всех мелких спецов (точнее, срочную службу), заменив девчатами (такая замена уже началась: у нас на практике девушки-оружейники и скоро надульникам (оружейникам – Ред.) - труба), отправят в танковые части или в пехоту. Ох!
Наш полк несёт жуткие потери. Из девяти машин за неделю боевых действий осталось три - и одна вчера пропала (вчера же сгорело три машины). Моя мечта - вновь попасть в Казань и работать в контрольном отделе радиооборудования. И снова видеть Валю.
Боже мой! Какое нахальство! Сижу в штабе боевого полка, кругом деловые люди, важные разговоры и дела, а я сижу, занимаю место и под носом у начштаба пишу письма и личные записи. Ха-ха-ха! Да, из штаба-то меня вытурили окончательно, у инженера есть писарь – девушка, и я сижу под предлогом сдачи ей дел (которых нет).
О-хо-хо! Устал. Ну её к чёрту - сдачу вместе с девчонкой-писарчуком! Возьму своё барахло, которое ехало на правах штабного имущества в ящике инженера, и пойду домой (километров пять). По пути искупаюсь. Пока.
«Ни одна иностранная армия не знала таких внутренних нарядов, как русская. Поистине, о ней можно сказать, что она существует, чтобы охранять себя» (Игнатьев. «30 лет в строю»).
«Прежде я думал, что человек создан для труда, а теперь вижу, что он создан для праздности. Беззаботная, счастливая праздность среди солнечного света и зелени - вот высшее благо, о котором может мечтать человек» (Н. Тимковский. «На отдыхе»).
Ха, привлекательно!
28.07.42 г.
Снова переезды. За 45 километров на автомашинах. Вот цыгане!
В нашу часть понагнали новичков – девчат-оружейников. По вечерам они снимают военную форму и облачаются в своё, в гражданское. И по военному лагерю мелькают цветистые платьица, белые кофточки, слышится серебристый девичий смех. И южная луна озаряет счастливые парочки, забывающие, что за 80 километров рвутся бомбы и смерть гуляет по берегу Дона. Немцы наступают, и второй день горит нефть во взорванной на Волге барже. На аэродром поналетели Илы, и мы едем в другое место.
29.07.42 г.
Приехали. Ночью тряслись в тесноте кузова трёхтонки и смотрели на прожектора и разрывы зениток. Пользуясь лунной ночью, немцы бомбили окрестности. Чёрный дым горящей нефти полосой проходил ниже луны и разрывов. А сейчас жаркий полдень. Зной, как тесто, заползает всюду. Но рядом Волга. С аэродрома, находящегося на возвышенности, она видна, ветер с неё освежает и манит в прохладу синих волн. Искупаюсь сегодня вечером обязательно.
Поражает полная бессмысленность нашего существования и работы. Поднялись, позавтракали, потащились 5 км сюда - и лишь за тем, чтобы спать под плоскостью (под крылом самолёта – Ред.) на бомбах. Дела абсолютно никакого (у большинства, и у нас с Женькой в частности). Кормёжка тут хуже, вообще ничего, кроме милой реки, не нравится.
4.08.42 г.
Уже на новом месте, второй день. Спим на воле, едим также под открытым небом. Средняя Ахтуба - яблочный король. Ходили в сады, нажрались яблок. Река Ахтуба - хороша. Глубокая (14 м) и широкая. Дежурю у телефона. Крыша - знойное бирюзовое небо. Лёгкий ветерок, бесконечная степь. Кормят хорошо, хоть и грязно. Лето - мировая пора для солдат. Жить можно.
6.08.42 г.
Снова ночь, и я один в штабе. Часовым. Ночь ещё не началась, и только южный ветер разливает прохладу по сомлевшим за день избушкам. И в избушку села Средняя Ахтуба, где расположен штаб полка, заползло облегчение вместе с ветерком. Я оживел и спешу воспользоваться этим кратким периодом. Мы тут уже несколько дней. Переехав в Сталинграде через Волгу, тащились сюда 30 км пешком. Мои сапоги расползлись, и я демонстративно топал босой, вызывая слёзы жалости у встречных душевных старушек.
Когда мы ехали из Саратова в Сталинград, то на одном из степных полустанков совершали экскурсию на речку Ахтубу и на другой берег в сад, за яблоками. Так то было то же самое место, и 3-го числа я повторил тот же маршрут. Достойный удивления маршрут.
Лётчики наши летают, полк пополняется новыми машинами после серии потерь, не уменьшается сейчас. А я по-прежнему хожу в наряды, работаю мало и войны не замечаю. То же, что в Казани или в Ломской прошлый год до начала войны. Выбран, вернее, назначен, политруком Ткаченко (он у нас за военкома погибшего) в президиум комсомольской организации. Приходится проявлять деятельность и на этом поприще. Изворачиваюсь, собирая заметки в боевой листок. Пока выходит. «Где кончается порядок, там начинается авиация» - это совершенно справедливо и в тылу, и здесь, на фронте. Не деловой народ русские (и я в том числе), не расторопный, а главное, недобросовестный... Надо написать мамаше и Тоське. Адью... Да, наши самолёты сбрасывают для немцев «Front-illusrierte» fur der Deutschen Soldaten («Фронтовые иллюстрированные газеты» для немецких солдат, нем. – Ред.). Довольно тактичные газетки. Много листовок такого же типа. Главная тема: сдавайтесь в плен. Это во время наступления немцев под Сталинградом-то! Ох!
Немцы от Сталинграда в шестидесяти километрах.
15.08.42 г.
Только что искупался в замечательной речке Ахтубе. Погода лишь слегка облачная, жара всё та же. Последнее время расстроился желудок - ни яблок, ни масла есть нельзя. Пока Bismut принимаю - ещё ничего, а без него - пропадай.
С неделю назад во время посадки наших самолётов налетели четыре Ме-109 и сбили наш Пе. А позавчера они почти что над аэродромом угробили наш «Дуглас». У нас почти нет машин, и впереди та же перспектива: занятия по расписанию, строевая, уставы, м/часть и прочие прелести.
Но пока лето - всё перенести можно. Что-то будет зимой?..
Со мной произошли неприятности из-за строптивости: не выполнил приказание (нужно было бегом, а я в совершенно разбитых сапогах пошёл шагом). Грандиозная взбучка и мораль по комсомольской линии, а по командной - угроза отправки в штрафную роту. Сие меня заставило пересмотреть жизненные девизы и выбрать:
«Во-первых: угождать всем людям без изъятия:
Начальнику, где буду я служить,
хозяину, где доведётся жить,
слуге, который чистит платья,
швейцару, дворнику для избежанья зла,
собаке дворника, чтоб ласкова была...»
«В мои лета не должно сметь своё суждение иметь» (цитаты из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» - Ред.).
А вообще, меня всё чаще и чаще посещает такое настроение, когда всё равно - жить или умереть. У меня нет настоящего, не предвидится блестящего будущего, а жить воспоминаниями надоело. Пожалуй, не доживу до конца войны, да оно и лучше. Смерти я не особенно боюсь.
23.08.42 г.
Mein lieber Kinder! («Моё любимое дитя!», нем. – Ред.) Так и до подлости докатиться недолго. Уже своих ближайших товарищей стал обманывать. Не надо, не хорошо (ведь всё равно поймают когда-нибудь).
Требовать уважения - глупо. Надо завоёвывать его.
Вчера был свидетелем воздушного боя. Три Ме-109 и пять Як-3. Сбито два Як-3, а трое немцев строем ушли домой. Они же перед боем сбили У-2, а к вечеру - «Дуглас», только «Мессершмит», атаковавший «Дуглас», не смог выйти из пике и врезался в землю. Видели останки лётчика: говорят, тонкая, нежная, почти женская рука. А 19.08 близ нашей палатки упал сбитый Ил-2. Видел место взрыва и тлеющий кусок мяса - всё, что осталось от лётчика.
«Мессершмиты» ходят, как хозяева.
31.08.42 г. Рейд порта Куйбышев.
Пароход «В. Молотов», на коем мы путешествуем от Саратова до Казани, грузится. Когда 26-го числа скрылось от нас зарево горящего Сталинграда (его подожгли немцы 23-го), уже было известно, что едем снова в Казань, формироваться… Валюша? Брось, какая там Валюша! Перед отъездом выдали громадные неуклюжие ботинки. Обмундирование вконец оборвалось, и был бы я дурак, вздумай показаться в таком виде ей. Давай крест на этом деле поставим.
В поезде до Саратова было голодновато, а сейчас продаём с Белушей камсу (мелкая рыба – Ред.), выданную как сухой паёк, но не употреблённую средними офицерами: воняет и вообще. Увлекаюсь этим, меняю, продаю, покупаю и в результате кушаем с компаньоном яички, молочко и творожок. Погода благоприятствует. Только я уже не так восхищаюсь красотой природы, воздухом и водой. Гораздо больше занимает моё воображение удачная продажа банки камсы за 40 рублей или обмен селёдки на два яичка. Час назад собрались на базар, и я уже предвкушал удачные финансовые операции, но адъютант не пустил. По сему случаю сижу и грущу, тем более что время есть - дневальный. Спим прямо на верхней палубе - не плохо. Скоро, не вставая с ложа, буду любоваться Жигулями. Чёрт! Адъютант всё настроение испортил! А Сергеев - скотина! Такое-то, Юрий Алексеевич, настроение... Да...
1.09.42 г.
В салоне второго класса парохода «В. Молотов» полумрак. Большие зеркальные окна, коими так гордилась «Императрица Екатерина» (бывшее название парохода – Ред.), выбило взрывной волной: немцы бомбили под Сталинградом. И окна забиты досками. Здесь тепло, тихо, лишь раздаётся стук домино: вечные козлогоны. А на палубе настоящая осень, ветер холодный и сырой, волны и пасмурное небо. Ночь эту придётся зябнуть, ведь спим на палубе. Вчера ещё было жарко. Мы купались, шутили: «Закрываем летнюю навигацию 1942 года». И неплохо получилось. Я нырял со второй палубы, раз шесть, и удачно. Все, даже свои, хвалили. Последние два прыжка запечатлены на плёнке: снимал «ФЭДом» какой-то майор. В сущности, невысоко, метров 6, но всё же страшновато, в особенности в первый раз.
Уже с месяц, даже больше, совсем не думается о девушках, любви, поцелуях и прочей любовной чепухе, которой, я думал, посвящу свою жизнь. Думы о жратве, отдыхе гораздо чаще посещают мою голову, чем мечты о прекрасной половине рода человеческого. Видать, возраст «первого сумасшествия» прошёл. Теперь буду, как и папаша, ждать второго - сорок лет. Жалко, два года юношеского пыла и страсти прошли зря, впустую, за стенами казармы. И теперь, коль увижу где хорошенькую девушку, сердце не трепещет томясь, а если и вздохнёшь, то, скорее, по привычке.
6.09.42 г. Борт парохода «Академик Карпинский».
В Казани пробыли два дня, пытался повидать Валю, но неудачно. Она смылась гулять со своим дорогим. Видел маму Валину: похожа, и мила так же, как и дочка.
Стою часовым у кучи вещей. Скучно и тошно: надоело. Насчёт жратвы опять с Белушей прекрасно устроились. Или закон, или везёт; в дороге ещё ни разу не сидел на сухом (как полагается) пайке. Год дружбы с Разживиным принёс свои плоды: стал изворотлив, хитёр, нахален, беспринципен - все качества в жизни полезные. Одному в дороге - труба. Трое - много. Пара - наиболее выгодный (в наших условиях) союз. Я и Белуша - дуэт не из последних. Первые идут - Шибай и Макаренко…
...Ишь, философ от сохи! Ха!
Жалко, что из Казани уехали. А может, и к лучшему?..
9.09.42 г.
Деревня. Совхоз. Жара. Тишина. Здесь мы работаем по уборке. Прошлый год в это время в Кривянке стожили сено и ели арбузы. Теперь их едят немцы, а мы скирдуем овёс и увлекаемся молоком. Сегодня я дневальный и ходил за 3 км в колхоз, купил мёду. Здесь он сравнительно не дорог (100 р., везде - 350 за кг). В каждой местности есть богатства, надо только не теряться и пользоваться ими. И вообще, фраза: «Единственное, что есть хорошего в жизни, - это минута приятного самочувствия» начинает казаться мне справедливой. Счастье Фауста, Ромео, старосветских помещиков, рекордсменов, героев, животных и моё подходит под её смысл.
Когда 6-го вечером мы выгрузились на тихую и пустынную пристань Чистополя, грусть объяла меня. Показалось, что мы снова приехали в Будённовск, что вот-вот начнётся зима, вторая зима войны. Боже! Только вторая, а их ещё - три-четыре будет... А оказалось, что до зимы ещё далеко, что всё - и столовая, и питание, в том числе, похожи на Кривянку, похоже, что жизнь не такая уж «пустая и глупая шутка». Тем более, что мёду я сейчас досыта нажравшись. Здесь - в глуши, без газет, без радио - поговаривают, что сдан Сталинград. Откуда они знают?! Спрашивают, почему мы, т. е. армия, отступаем. «Неужели и нам, - говорят, - под немцем жить?» Не добрый народ местные жители, не любят армейцев.
Вечер на пути с поля (работал).
Чудный вечер. Солнце ещё не зашло, но тихо, прохладно. Сегодня идём домой, в город. Не хочется. Где-то буду через год? Где? Нет, не угадать! Дома?.. Эх!
17.09.42 г.
Хотелось бы написать нечто отвлечённое, да в голове ничего подобного нет, а на перо просится: «Боже, какой тупица!».
Хорошо, хоть это-то понимаешь, а то скоро себя за умницу почитать станешь, юноша (что и случается иногда в разговоре). Меньше гордыни, Юрий Алексеевич!
Дневалю (в совхозе). Чем бы заняться? Писать? Ну не пишется, только бумагу изведу.
19.09.42 г. Вечер.
Все в кино. Хорошо, когда мало народу. Сижу, анекдоты из походного блокнота переписываю в тетрадь. Сосчитаешь – 140, читаешь – мало. Завтра выходной. Хорошо бы не заняли ничем, в библиотеку схожу.
22.09.42 г.
Я мечтатель. Мечтаю о страстях, подвигах, и всегда я - участник разыгрываемых трагедий. Мнимые страсти, говорят, ослабляют действительные, и человек, влюблённый в мечту, уже не сможет глубоко чувствовать действительность. Но Мериме, о котором профессор Лонг сказал: «Остерегаться излишних увлечений» и т. д., разве не чувствовал, как мечтатель, разве не смотрел на действительность со стороны, из мира фантазии?.. Это я, по желанию моему, стал упражняться в отвлечённых словопрениях.
Предыдущие - плод долгих, искусственно вызванных впечатлений. Надуманно всё, ходульно получается.
Приехал из далёкой поездки Вовка Разживин. Наверное, был дома в Ярославле, может, и в Рыбинск сгонял. Как-то там мама живёт?
Осень началась. Построили новую уборную, и я уже представляю, как придётся бегать в неё в страшные, с ветерком морозы. Настроение большей частью подавленное - впереди долгая, суровая зима, вторая зима войны.
Ох, а в голове так и болтаются мысли, как бы чего бы где спиздить, устроиться получше. Записать, что ли, что сегодня два обеда слопал? Эх, сибарит! Да ещё и животное. Вот тебе и «философ»: кроме жратвы ни о чём не может думать... Приближается вторая годовщина моего призыва в армию. Как-то справим?.. Мысль не задерживается на чём-нибудь одном, а быстро и бестолково скачет. И мыслить логически, чем так гордился, разучился. Ох, читать надо, читать. И записывать. Не меньше сотни книг за зиму дельных. Напишу-ка мамаше да Юрке Иванову. Благо, хорошо в штабе часовым. Час
И.Г. ТАЖИДИНОВА
ДНЕВНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.: ПОТЕНЦИАЛ ИСТОЧНИКА
Tajidinova I.G. War time diaries: the potential of the source. In honour of the 70th anniversary of Great Patriotic war
Аннотация / Annotation
Статья посвящена научному анализу содержания дневников советских граждан, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Подчеркивается значение дневника как средства совладания с жизненными трудностями в экстремальной ситуации. Делаются выводы об особенностях дневников в зависимости от того, велись они на фронте или в тылу. Рассматриваются возможности и перспективы использования дневников в современной историографической ситуации.
The article is devoted to scientific analysis of the contents of Soviet citizens Great Patriotic war diaries. It is argued that a diary is a means of overcoming life’s difficulties in an extreme situation. It is concluded that diaries’ specificities depend on where they were kept in the front-line or in the rear. The article also considers possibilities and future trends of using diaries in a nowadays historiographical situation.
Ключевые слова / Keywords
Источник, источниковедение, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., дневники военного времени, фронтовая и тыловая повседневность. Source, source study, the Great Patriotic War 1941-1945, war time diaries, front-line and rear routine.
ТАЖИДИНОВА Ирина Геннадьевна – доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета, кандидат исторических наук, г. Краснодар; 8-861-267-27-87; 8-962-860-77-77; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Всплеск интереса к истории Великой Отечественной войны определяется не только чередой памятных дат, отмечаемых в российском обществе. В значительной мере он связан с появлением новых подходов в осмыслении военной темы, современными тенденциями в развитии гуманитарного знания в целом. Очевидно, что разработка таких исследовательских направлений, как социальная история, микроистория, гендерная история, военно-историческая антропология находится в тесной зависимости от введения в научный оборот соответствующих источников. Одно из центральных мест в круге этих источников принадлежит дневниковому наследию военных лет.
Дневники обычных людей, «среднестатистических» советских граждан, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, определяются как малочисленная группа источников. Если дневниковые записи видных общественно-политических деятелей, писателей, ученых известны давно, то внимание к таким дневникам – явление последнего времени. Представленные в архивах России буквально единично, а в лучшем случае – десятками, дневники уступают в количественном отношении такому ценному массовому историческому источнику как письма военных лет. Но, в отличие от последних, не обреченные на прохождение сквозь «сито» военной цензуры, дневники освещают широкий спектр настроений и жизненных ситуаций комбатантов и мирных граждан, хорошо отражают динамику событий и личных переживаний. Отличаясь по своему функциональному назначению от всех других источников личного происхождения, дневники обладают многообразным, уникальным потенциалом.
Определенный, хотя и незначительный, комплекс источников этого рода опубликован (обычно во фрагментах или в сокращении). Дневники можно обнаружить в многотомном издании «Власть и общество. Российская провинция», отдельных сборниках документов личного происхождения, специальной периодике. Данные публикации вводят в научный оборот источники, находящиеся на хранении как в государственных (федеральных, субъектов Российской Федерации), муниципальных и частных архивах, так и в архивах организаций и в музеях. Опираясь на документальные публикации последних лет, проанализируем потенциальные возможности военных дневников советских граждан как особого исторического источника, определим перспективы их использования в современной историографической ситуации*.
Среди дневников участников Великой Отечественной войны, как правило, выделяются фронтовые и те, что велись в условиях тыла. Однако ввиду постоянных перемещений населения, изменений в статусе, которые влекла война для многих советских граждан, четкое деление зачастую проблематично. Существует также немногочисленный ряд дневников, написанных советскими военнопленными и «восточными рабочими». Дневники, принадлежащие женщинам, встречаются намного реже, чем мужские.
Дневники различаются по объему, систематичности и характеру записей. Стилевые особенности и предпочтение в пользу конкретных тем, во многом, связаны с социально-демографическими и личностными характеристиками авторов. Тем не менее, рассматривая такие основные типы дневника как «фронтовой» и «тыловой», предполагается выделить общее и особенное в их тематическом репертуаре, обозначить эмоциональные узлы, присутствующие в них.
Дневниковые записи чаще всего велись в общих тетрадях или записных книжках, но иногда использовался необычный материал (первая часть дневника сочинца А.З. Дьякова написана в тетради, сшитой им из обоев) (2, 19). Следует иметь в виду, что вести дневники в Красной Армии рядовым и младшим офицерам в войну не разрешалось, то есть делалось это нелегально. Так, рядовой И.М. Хайкин прятал свои короткие заметки то за пазухой, то в сапог (3, 227). Некоторые, как гвардии старшина В.В. Сырцылин, придавали собственным впечатлениям и размышлениям форму очерков или стихов, планируя в перспективе превратить их в «простую книгу, без выдумок и прикрас, как это делают настоящие писатели» (2, 111). В то же время известны случаи, когда события фиксировались автором дневника с большой тщательностью. Таковы записи старшего лейтенанта А.И. Кобенко, который впоследствии отрекомендовал их так: «У меня могут спросить, откуда у меня такие точности в датах, наименовании мест, переходов. Все главные даты, селения, переходы я записывал в походном дневнике, то есть в 7 книжках за весь период пребывания в Красной Армии в войну, которые сохранились, из этих записей и написаны мои воспоминания о пройденном моем жизненном пути» (2, 14).
Перекрещивание жанров дневника и воспоминаний – распространенный случай. Такая метаморфоза могла произойти уже во время войны, когда, приняв решение о начале дневниковых записей, человек поднимал «осевшее» за те месяцы и даже годы, когда они не велись. К примеру, в дневнике фронтового фотокорреспондента Е.С. Бялого таким образом оказались отражены первые полтора года военной службы (3, 57-63). Еще чаще случаи, когда участник войны уже в послевоенные годы производил обработку фактического материала, разрозненных обрывков записей. Так поступил А.И. Кобенко, осветивший в своем «Дневнике-воспоминаниях» события за весь период войны (2, 203-216). Также впоследствии назвала свои личные записи 1942-1943 гг. М.И. Сонкина, сержант батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи противовоздушной обороны. Основной лейтмотив данного источника – суммирование «опыта жизни», который прирастал после призыва в РККА. «Мы даже не представляли, как землянки строят…» – гласит одна из записей, сделанная девушкой. Минна Сонкина неоднократно подчеркивает, насколько «выросли» девушки в годы войны, «заменили» мужчин, смогли почувствовать себя «равными» (3, 173-178). Такой материал об эмансипационных тенденциях военного времени интересен в контексте гендерных исследований.
Дневниковые записи обычно велись в достаточной мере образованными, чуткими к собственным переживаниям и общественным настроениям людьми. Поэтому дневник, охватывающий события 1941-1945 гг., нередко является продолжением личных записей, начатых еще до войны. Москвич В.Г. Кагарлицкий, 1923 г. рождения, вел дневник со школьной скамьи. Летом 1941 г. продолжил его на оборонительных работах в Смоленской области, позже – в зенитно-пулеметном училище в Чкаловской (ныне – Оренбургской) области, наконец, с 1943 г. – на фронте и в госпитале (4, 22). В то же время война стимулировала тягу к письму у тех, кого трудно назвать образованным или опытным. Один из примеров такого рода – дневник жительницы г. Курска К. Христиньки, угнанной в Германию (2, 73-80). Двадцать семь листов ее записной книжки – это описание переезда девушки по территории Украины, Польши, Германии, ее непростой жизни у «одной Фрау». В записях, где налицо малограмотность автора, переплелись тревога за свое и близких будущее, любопытство к внезапно обрушившемуся на нее «чужому» (местности, людям, языку), стойкость в невзгодах и почти детская наивность.
И все же, в большинстве случаев, решение о ведении дневника принималось либо в первые дни войны, либо в ее ходе, под влиянием неординарных условий существования. Большое значение, особенно для фронтовиков, имел накопительный эффект, когда отражение сильных эмоций и ярких впечатлений на бумаге принимало форму насущной потребности. Не стоит недооценивать и таких факторов, как взросление и сопутствующее ему желание осмысления своих действий, жизни в целом, а также «одиночество среди людей», особенно чувствительное во фронтовой среде на завершающем этапе войны.
«Никогда, даже в детстве не вел я дневника, – писал тридцатилетний фотокорреспондент фронтовой газеты Е.С. Бялый. – Сегодня, видимо, по-настоящему перешел в другую фазу своей жизни. Мысль о ведении дневника – записей – чуть ли не доминирует над всеми другими. Попробую!» (3, 59). Стиль этого дневника – емкий, телеграфный, несколько скрытный. О службе: «Рассвет – мы на колесах… Много пунктов, авралов, делаю все, что может дать коллективу хорошее, полезное. Делаю это с душой, искренно. Эта работа нужна!». О накоплении опыта: «Путь показал лицо коллектива, в котором мне предстоит находиться. Вырисовываются контуры индивидуумов, составляющих этот коллектив». О быте: «Человек становится больше. Места становится меньше». Об одиночестве: «Очень хочется побеседовать. Проанализировать вдвоем. Не расскажу, с кем чувствую пристрастность ответов, советов и указаний. Сдержан». Стиль повествования заметно теплеет, когда речь заходит о близком фронтовом друге, о жене. Специально фиксируются сильные (о налетах врага) и необычные (о деревенских обычаях) впечатления (3, 57-63).
Ведение дневниковых записей на протяжении всей войны – редкий случай. Как уже было отмечено, к записям как эмоциональной отдушине довольно часто обращались «на волне» начала войны. Прекращение же их происходило в силу непреодолимых обстоятельств (гибель автора, неприемлемые для письма условия существования), либо по причине морального истощения, сокращения притока значимых событий. В последнем случае записи постепенно теряли в объеме, становились однообразными. Можно заметить, что переход инициативы в ведении военных действий к Красной Армии, исчезновение непосредственной опасности для жизни автора и его близких также обычно способствовали прекращению дневниковых записей теми, кто находился в тылу. Сроки жизни дневников комбатантов, систематичность записей в них, во многом, зависели от ритма фронтовой повседневности, прежде всего, интенсивности боевых действий. Об этом свидетельствуют несколько кратких замечаний из дневника младшего сержанта Л. Френкеля. В мае 1942 г.: «Писать стало очень трудно, просто негде». Спустя месяц: «Долго не писал. Не было ни обстановки, ни настроения» (4, 12). В отличие от тыловых дневников, для фронтовых характерно активное ведение записей на завершающем этапе войны, чему были особые причины. С одной стороны, именно в этот период военнослужащие чувствовали крайнюю опустошенность, одиночество, и, как следствие, актуализировалась функция дневника как средства моральной поддержки. С другой стороны, фронтовые дневники этого периода переполнены впечатлениями об увиденном за рубежом, комментариями по этому поводу. Поскольку в зарисовках о Польше, Румынии, Германии и других странах ярко выражен сравнительный аспект, то они, по сути, несут ценную информацию о представлениях и практиках, бытовавших в самом советском обществе. В целом, влияние фактора времени на содержание рассмотренных документов представляется одним из самых значимых.
Записи, сделанные 22 июня 1941 г. (собственно, многие дневники начинаются этой датой) либо в последующие несколько дней, заслуживают особого внимания. Подробно описывая момент получения известия о начале войны, авторы намеренно выделяют это событие как контрастное по отношению к природным ритмам («чудесный летний день») и упорядоченности повседневной жизни («утро ничем не отличалось от других дней», «я ковырялся в огороде»). Краснодарец А.И. Кобенко запечатлел роковой момент так: «В этот день мы с Нюсей пошли на Красную улицу в магазин мануфактуры. Это было в 2 часа дня, в репродукторе раздались позывные, потом голос В.М. Молотова, сообщивший о войне, о внезапном нападении немцев на нашу страну. Нюся начала плакать, как и другие советские граждане, и сказала: “Что же теперь будет с нами?”. Я ее успокоил и сразу пошли домой, ничего не купили» (2, 203).
Передавая потрясение, ошеломление страшным известием, дневниковые записи, в то же время, демонстрируют большую собранность, ответственность и сплоченность советских людей перед лицом грядущих испытаний. Сразу проявилось стремление коллективно обсуждать события на фронте; люди «толпились», с большой активностью посещали лекции и митинги, запоем читали газеты. Настрой сочинцев передает запись, сделанная А.З. Дьяковым на девятый день войны: «Многим казалось – особенно года 1914-1918 гг., что после объявления о мобилизации каждый будет взят через день-два – каждый собрался-ждал» (2, 20).
Фиксация событий «мужским» дневником в начальный период войны (независимо от того, находился автор на фронте или в тылу) почти в обязательном порядке включает анализ ситуации на театре военных действий, предположения о позиции и ближайших действиях союзников, размышления о своем «месте» в этой войне.
Анализ числа потерь с обеих сторон, перспектив развития военных действий – распространенная тема как в дневниках военнослужащих Красной Армии, так и в записях тех, кто оставался в тылу, но имел опыт участия в Первой мировой и Гражданской войнах. Особенно скрупулезен в оценке ситуации на фронте Дьяков, подчинивший задаче ее отслеживания свой жизненный распорядок: «Вошло в привычку просыпаться в 6 ч. и раньше, чтобы не прозевать информационное сообщение с фронта». Его записи, сделанные во второй половине 1941 г., являются, по большей части, эмоциональным откликом на потери конкретных территорий: «Ушам своим не поверил…» (о попытках противника форсировать Днепр); «Поразило до глубины…» (об оставлении Смоленска); «Неприятная уступка на фронте… Что же дальше? Что за черт?» (о сдаче Николаева и Кривого Рога). Ощущая дезориентацию в ситуации, Дьяков записывает: «С оставлением Смоленска информбюро стало передавать без указания “направления”, что выбило всякую возможность ориентировки…» (2, 21-23).
Раздражение отсутствием нормально поступающей, правдивой информации о ситуации на фронте – ведущая тема дневниковых записей первого года войны. О недоверии к сообщениям Совинформбюро свидетельствует и житель г. Горького И.А. Харкевич: «Радиоприемники у нас отобрали, хожу слушать радио на улицу… Но сколько нам не сообщается Совинформбюро! Народ приучается уже читать между строк и делать свои выводы и заключения, так растут слухи» (1, 56).
Угнетенное состояние по поводу отступления Красной Армии, тем не менее, соседствовало с уверенностью в победе. Особенно явно стремление «прописать» такую уверенность сквозит в записях первых дней войны. Л.С. Френкель, находившийся в момент начала войны на срочной военной службе, 22 июня 1941 г. делает характерное замечание: «Удивляет, на что надеется Гитлер» (4, 2). Успешной работой советских средств массовой информации можно объяснить подбадривающие размышления следующего типа: «Территория может быть освобождена с приростом…» (из дневника А.З. Дьякова, 8 июля 1941 г.) (2, 22). Привлекают внимание цифры людских потерь, которые цитируют в своих дневниках авторы. 22 июня 1942 г., то есть в день первой годовщины начала Великой Отечественной войны, А.З. Дьяков пишет о 10 миллионах убитых и раненых со стороны немецких войск и 4,5 миллионах – красноармейцев (2, 48). Спустя ровно год цитирует, очевидно, также добытый из сообщений средств массовой информации итог двух лет «войны с фашистской гидрой»: немцев убито и взято в плен – 6 400 000 человек, «наших – советских – русских» – 4 200 000 человек (2, 65). Если Дьяков не решается усомниться в этих, как минимум, противоречивых данных, то для Л.С. Френкеля, находящегося на фронте, цифры потерь под Харьковом в июне 1942 г. («Немцы потеряли 90 тыс. убитыми и ранеными, а наши потери 50 тыс. убитыми и 70 тыс. пропали без вести») убедительными не кажутся. Он пишет: «Все это непонятно, особенно про “пропавших без вести”. Думаю, разобраться можно будет лишь спустя некоторое время после войны» (4, 12).
На дневниках советских граждан лежит печать самоцензуры. Снять ее оказываются способны лишь обстоятельства, ребром ставящие вопросы выживания. Под их влиянием обнажаются «теневые» стороны жизни в советском социуме: блат, воровство, спекуляция, трения в межэтническом общении, отвратительная работа почтовых служб, общественного питания и прочее. Критика недостатков присутствует в некоторых тыловых дневниках, причем она может перерастать в опасные обобщения. «Слаба наша экономическая система была до войны, а к войне и вовсе не приспособлена», – пишет инженер горьковского автозавода И.А. Харкевич. Констатируя «беспрерывное отступление» Красной Армии, усомнившись в готовности страны дать отпор врагу, в записи от 23 июля 1941 г. автор позволяет себе горькую иронию: «Где же наши могучие средства обороны, за счет создания которых мы усиленно подтягивали ремни у штанов?» (1, 56). Сомнения в слабости врага присутствуют и на страницах фронтовых дневников. Л.С. Френкель, находившийся в Сталинграде в июле 1942 г., пишет: «Странно, как нас ориентировали в отношении сил немцев. Все прогнозы в отношении его истощения прошли, а он прет и прет. Для меня совершенно ясно, что организационно и по умению организовывать операции немцы очень сильны и это пока имеет решающее значение» (4, 14).
Примером «жесткого» фронтового дневника могут служить записи Э.И. Генкина, описывающие его и других советских солдат «Сизифов путь» по «кондовой, отвратительной» Польше и «распятой» Германии. Стараясь быть объективным в оценке увиденного за рубежами СССР, капитан Генкин, тем не менее, не в состоянии отделаться от ощущения неприязни к обычаям, людям и даже – запахам. Он отмечает простоту и искренность, смелость и выдержку русского солдата, который единственный может довести войну до победы («Денди не выдержат немецкого огня и просто не сумеют перешагнуть через горы трупов, как сможет сделать русский человек»). В то же время упоминает отталкивающее «русское хамство», «отсутствие честности». Ужас и угнетение вызывает у автора дневника грабеж, сопровождающий пребывание советских войск в Германии. Споры о жизни с товарищем по службе показывают, что вера «во что-то светлое» (то есть в социализм, который вряд ли будет построен и «через 500 лет») у него иссякла. Записи первой половины 1945 г. – это, в основном, документирование «адского» финала войны, когда «лирика горит». Наконец, в майские дни Э.И. Генкин завершает дневник: «Итак, война кончилась. Прекратилось бессмысленнейшее убийство!.. А на душе пусто. Чего же хочется? Черт его знает! Главное, очевидно, не только в том, чтобы война кончилась. Важно еще то, чтобы началась настоящая жизнь» (3, 276-284).
Самосохранительные практики советских граждан, выработанные еще в довоенный период, как правило, удерживали их от нелояльных высказываний. Тем не менее, встречаются дневниковые записи, в какой-то мере свободные в этом отношении. Как пример – фрагменты из дневника фронтового фотокорреспондента Совинформбюро М.А. Трахмана, который специализировался по партизанскому движению. Неоднократно, с риском для жизни Трахман пробирался через линию фронта к партизанам, вылетал в тыл врага, в отряды партизан Украины и Белоруссии. Его дневниковые зарисовки о жизни партизан весьма нетривиальны, что осознается и самим автором. Он пишет: «Вообще, здесь в основном молодой, здоровый народ. Нет традиционных партизанских бород и вообще это не “пейзане – партизан – рюсс” как пишут наши братья–писатели. Это очень плотные, толстомордые ребята, которые любят посмеяться и пощупать девушек. Дерутся они так, что ни у кого в головах и не возникает мысль отойти без приказа… Дай бог, чтобы армия так дралась». В нескольких местах автор нелестно высказывается о жизни в сельской местности («Бог мой, как надоела деревня»), дает брезгливое описание грязи в хате многодетного семейства. Наконец, делая акцент на условиях партизанского быта, откровенно резюмирует: «…болота, кочки и пригорки, комары и вши, а ведь я здесь только месяц, а люди здесь находятся по два года, это настоящие герои, даже если они не спускали эшелонов и не рвали мосты» (3, 211-213).
Смысловая нагрузка ведения дневника для человека военного времени в немалой степени заключалась в саморефлексии, напряженных раздумьях над этическими дилеммами, которые ставила перед ним война. Для врача И.Я. Файнберг, оставившей двоих своих детей на оккупированной врагом территории (будучи директором минского Дома ребенка, покинула семью, сопровождая группу воспитанников до г. Курган) и уверенной в их смерти, такой дилеммой стал вопрос о продолжении собственной «дурацки спасенной, никому не нужной жизни». Ее дневниковые записи – попытка совладать с неизвестностью, фактически дожить до какой-либо документально подтвержденной информации о гибели сыновей. В дневнике не раз подтверждается нацеленность капитана медслужбы Файнберг на сведение счетов с жизнью. Мысленно обращаясь к своим детям, женщина пишет: «Я погибну за вами… Я никогда не пожелаю существовать без вас, ничто меня не остановит. Партия меня не осудит, так я думаю, потому что я неполноценный буду человек…» (3, 109-110).
Пример дневника А.З. Дьякова свидетельствует, что одним из «болевых» был вопрос о непосредственном участии в защите Отечества. 48-летний мужчина, который имел серьезный опыт участия в Гражданской войне, Дьяков, с одной стороны, стремился уйти на фронт, вплоть до того, что в первые дни войны «приготовил пару белья, две пары носков, кусок мыла» (2, 20). В то же время он осознавал подорванное состояние здоровья и ответственность перед женой, которая была экономически несамостоятельна и тоже серьезно болела. Несмотря на искренний патриотический настрой, Дьяков, прошедший несколько комиссий и, наконец, признанный «не годным», испытал определенное облегчение по этому поводу. Записал следующее: «Так кончилась моя военная карьера… Узнав о заключении комиссии, жена очень обрадовалась. Мне же было тоскливо, как будто что-то утерял…» (2, 33).
Н.И. Френкелю (политработнику, в 1943 г. сформировавшему в тылу врага полк военнослужащих) нередко приходилось принимать решения о наказании подчиненных, и именно на страницах своего дневника «Журнал боевых действий в тылу врага» он размышлял об их справедливости (3, 231-241). Так, когда к его отряду «прибилась» группа вооруженных бойцов во главе с младшим лейтенантом, который был пьян, «ругался матерно и оскорблял офицеров и рядовых Красной Армии, называя их предателями», Н.И. Френкель принял решение расстрелять его перед строем. Однако, узнав на допросе о партизанском прошлом лейтенанта и уничтожении всей его семьи немцами, заменил расстрел на пять суток в «прохладной гаупвахте». Применяя расстрелы к мародерам и дезертирам, Френкель оценивал в дневнике правильность каждого своего решения. Критериями были тяжесть проступка и то воздействие на подчиненных, которого он своим приказом хотел добиться (например, пресечь разложение в рядах бойцов).
Проблемные ситуации, анализируемые в дневниках, заключались, в том числе, во взаимоотношениях с товарищами по службе. Отношения эти были не всегда простыми хотя бы потому, что война предъявляла к человеку повышенные требования, а значит, оценка его качеств становилась более строгой. В.Г. Кагарлицкий, рассказывая о своем участии в оборонительных работах в Смоленской области, упоминает о возникших сложностях в общении. Юношеские надежды на «романтику» совместной работы не оправдались; в обстановке голода, тяжелого физического труда люди, напротив, огрубели. «Некоторые за это время сошлись, некоторые стали друг другу зверями» (4, 22). Среди первых фронтовых впечатлений Владимира Кагарлицкого – открытие, что близкий товарищ может оказаться трусом.
Фронтовые дневники содержат много замечаний о достоинствах товарищей по службе (это особенно касается погибших друзей), но нелицеприятных оценок в адрес сослуживцев также немало. Л.С. Френкель называет одного из сослуживцев «обывателем с партбилетом» (4, 14). А.П. Соловьев, работавший секретарем дивизионной газеты, так отзывается о сотруднике редакции: «Ловкий человек Петро. Далеко пойдет… Он воспевает в своих стихах доблесть и геройство, а сам лично очень далек от геройства. Я уверен, что он потому редко ездит на передовые линии, что трусит ездить туда… Он может только подобрать рифму» (5, 19). Среди осуждаемых фронтовиками поступков фигурируют пьянство (особенно в тыловой среде), грубость, употребление мата. Что касается отношений между подчиненными и командирами, то они иногда критикуются за формализм. В частности, Соловьев делает следующий вывод: «Очень и очень плохо, что командиры наши не знают людей… Формальность, при командирах, которые плохо знают свои кадры, по-моему, плохо влияет на дело войны» (5, 22).
Огромная роль военного дневника как средства самопознания проявляется в том, что зрелые авторы выходят в своих записях на обобщения, касающиеся собственной судьбы в целом. Поддавшись воспоминаниям о юности, А.П. Соловьев, перешагнувший сорокалетний рубеж, констатирует: «Пройден долгий путь. Уже не будет увлечений, которые захватывают без конца. Надвигается старость со своей черствостью и отсутствием порывов. Наступает тот период жизни, когда логика подавляет движения души. Жалко пройденного пути, который уже пройден безвозвратно» (5, 22). Еще более горькие раздумья содержатся в дневниковой записи, сделанной в начале 1942 г. А.З. Дьяковым: «Перед уходом на работу взглянул в зеркало и заметил много, чего не видел раньше. Как будто годы я не видел себя: борода седая, брови с проседью, под бровью какая-то белая родинка выросла, на зубах камень пожелтелый. Но все же еще молод – на вид 50 лет. Волосы на голове черные без седин, зубы все целые... Да, взгрустнулось – время идет. Не заметил, как постарел, а жизни не видел. Только было успокоились – война, а до нее – не перечесть страданий и ненормальной жизни. Единственная мысль – отдохнуть последние годы после войны. Старость меня не беспокоит – даже радует – не знаю, почему такая радость…» (2, 39). Вообще в дневнике Дьякова акцентирована передача глубоко личных душевных переживаний автора, связанных с анализом взаимоотношений с близкими, прежде всего, с сыном. Особенно тяжелые размышления фиксируются автором в связи с гибелью сына на фронте. Дьяков даже задается вопросом: «Переживают ли так другие?» (2, 13). Трагическое событие оказывает столь сильное моральное воздействие на автора дневника, что записи, которые он с большой систематичностью вел два с половиной года, постепенно прекращаются.
Таким образом, ведение дневников в годы Великой Отечественной войны выполняло множество функций, главными из которых являлись фиксация важных для автора событий, впечатлений, фактов, а также его эмоциональная разрядка. Ввиду невозможности передать в письмах, проходящих военную цензуру, значительную часть увиденного и пережитого, советские люди в некоторых случаях доверяли эти сведения дневнику. В дневники попадали литературные опыты авторов, в них копировались важные в контексте жизни авторов документы (справки, извещения о смерти и др.). В итоге, в дневниковом наследии военного времени «залегают» пласты информации разного рода. Наиболее объемны и ценны те из них, которые характеризуют повседневность советских людей в период Великой Отечественной войны.
Разумеется, имеются существенные различия в содержании дневников, в зависимости от того, велись они на фронте или в тылу. Тыловой дневник, как правило, хорошо освещает материальную сторону жизни (потребительские практики населения, продовольственные проблемы, трудности с отоплением), раскрывает привычные и новые, пришедшие с войной, образцы поведения советских граждан. В нем можно почерпнуть сведения о патриотических настроениях, семейно-бытовой сфере, досуговых предпочтениях, дружеских и любовных отношениях, производственных вопросах. Много места отводится описанию драматических событий: бомбежек, эвакуации, гибели родных. Тыловой дневник фокусируется преимущественно на индивидуальных переживаниях, но в отдельных случаях он способен развернуть панораму жизни тылового промышленного центра в условиях военного времени (дневник жителя г. Горького И.А. Харкевича), представить череду уникальных зарисовок из повседневности крупной железнодорожной станции (дневник жителя г. Сочи А.З. Дьякова).
Фронтовому дневнику свойственны несколько иные черты. Он зачастую жестче, даже «злее», фиксирует информацию в более сжатых формах. Во фронтовом дневнике менее выражена утилитарная составляющая. Хотя военнослужащие и затрагивают проблематику питания, бытовых удобств, здоровья, но она не доминирует, а в некоторых источниках практически отсутствует. Много внимания уделяется описанию переездов, перечислению выполняемых обязанностей, характеристикам товарищей по службе и случайных знакомых, встреченных на дорогах войны. На первый план выходит «лично пережитое»: описание участия в боях, передача увиденного за сотни и тысячи километров от дома, рефлексия по поводу человеческих отношений в экстремальных условиях войны. Во многих дневниках проступают противоречия нового опыта; наряду с выражением гордости стойкостью и мужеством русского солдата, примерами этих и других его положительных качеств, авторы упоминают о фактах трусости сослуживцев, плохой подготовке командного состава, пьянстве, распространении явления ППЖ (походно-полевых жен).
Подводя итоги, следует отметить, что ведение дневников участниками Великой Отечественной войны, очевидно, являлось одним из средств совладания с теми жизненными трудностями, которые несла с собой эта война. По спектру сюжетов, передающих настроения и жизненные ситуации человека военного времени, обилию подробностей и затрагиваемых тем, дневники являются ценным, практически незаменимым источником. В то же время потенциал этого источника в воссоздании фронтовой и тыловой повседневности до сих пор недостаточно использован исследователями.
Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки .
Уникальные кадры - скан фронтового дневника участника 2-й Мировой Войны. Интереснейшие записи, отражающие истинное чувство предстоящей победы и перенесенных лишений. В нем все то, что пришлось пережить нашей стране в ужасные военные годы. Читаем дальше!
Впереди баррикады противника, мины, справа и слева вода. Наступали трижды, понесли 50 процентов потерь личного состава и всех офицеров. Я был офицером связи и принял командование, когда принес третий приказ наступать.
Бьет гранатомет, ножом роешь лисью нору. Верх ячейки–окопа прикрываешь досками. Слышишь выстрел, и к моменту падения гранаты пытаешься по возможности влезть в нору. Граната разбивает доски, если не попадает в щель между досок. В лисьей норе, когда бьет гранатомет, наблюдение ведут из тыла, и если надо наступать или стрелять, звонят. До противника - 100 метров. Даже ночью большак простреливается так, что ходить за пищей и боеприпасами опасно. Лопатки не разведешь.

На восьмой день, по телефону от начштаба получил приказ наступать. Все солдаты сидели по отдельным ячейкам вдоль дороги. Чтобы выскочить и пробежать по ячейкам передать приказ, два раза показывал лопату, и тут же из пулемета - очередь. На третий раз выскочил сам. Когда бежал, пулеметные очереди дождем прошивали землю под ногами, и даже между ног. Успел пробежать две ячейки, крича: « По сигналу ракеты вперед, на баррикаду!» В третью ячейку прыгнул кому–то на голову. Затем таким же путем - в пятую ячейку. Старшина Чуфаров оттуда меня не выпустил. Нервное напряжение игры со смертью так вымотало, что я согласился. Очень устал. Отдохнул, и через час вернулся в свой окоп. Телефон не работал. Кабель был перебит пулей.

Перед рассветом, пользуясь темнотой, подошли к баррикаде и окопались, производя большой шум. Туман рассеялся. Около дома из окопа торчали ноги. Немцы прибили своего сержанта.
Выхожу на дорогу с нательной белой рубахой на палке и подхожу к баррикаде для переговоров, предлагая немцем сдаться.
Немцы выбежали из-за баррикады ко мне с винтовками в руках. Ныряю за обломки в воду и готовлюсь биться до конца.
-Русь, не стреляй, в плен идем!- закричали немцы.

18 апреля было приказано по телефону встретить танки и вывести их на огневые позиции. За время войны я так привык к земле, что отказался от предложения танкистов залезть в танк, а побежал впереди них под обстрелом, указывая огневые позиции, атаку немцев отбили. (Район я знал хорошо – район обороны моего взвода).