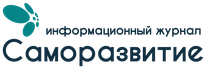На стыке XIX и XX веков Россия жила в ожидании грандиозных перемен. Особенно это ощущалось в поэзии. После творчества Чехова и Толстого было трудно творить в рамках реализма, так как уже были достигнуты вершины мастерства. Потому и началось отторжение привычных устоев и бурные поиски нового: новых форм, новых рифм, новых слов. Началась эпоха модернизма.
В истории русской поэзии модернизм представлен тремя основными течениями: символистами, акмеистами и футуристами.
Символисты стремились к изображению идеалов, насыщая свои строки символами и предчувствиями. Очень характерно смешение мистики и реалий, не случайно за основу было принято творчество М. Ю. Лермонтова. Акмеисты продолжили традиции русской классической поэзии XIX века, стремясь отобразить мир во всем его многообразии. Футуристы же, наоборот, отрицали все привычное, проводя смелые эксперименты с формой стихотворений, с рифмами и строфами.
После революции в моду вошли пролетарские поэты, излюбленной тематикой которых стали те изменения, которые происходили в обществе. А война породила целую плеяду талантливых поэтов, среди которых такие имена как А. Твардовский или К. Симонов.
Середина века ознаменовалась расцветом бардовской культуры. В историю русской поэзии навеки вписаны имена Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора. Вместе с тем продолжают развиваться традиции серебряного века. Одни поэты равняются на модернистов - Евг. Евтушенко, Б. Ахмадуллина, Р. Рождественский, другие наследуют традиции пейзажной лирики с глубоким погружением в философию - это Н. Рубцов, В. Смеляков.
Поэты "серебряного века" русской литературы

К. Д. Бальмонт. Творчество этого талантливого поэта на долгое время было предано забвению. Стране социализма не нужны были писатели, творящие вне рамок социалистического реализма. Вместе с тем Бальмонт оставил богатейшее творческое наследие, которое еще ждет пристального изучения. Критики назвали его "солнечным гением", так как все его стихотворения полны жизни, свободолюбия и искренности.
Избранные стихотворения:

И. А. Бунин — крупнейший поэт XX столетия, творящий в рамках реалистического искусства. Его творчество охватывает самые разные стороны русской жизни: поэт пишет о русской деревне и гримасах буржуазии, о природе родного края и о любви. Оказавшись в эмиграции, Бунин все больше склоняется в сторону поэзии философской, ставя в своей лирике глобальные вопросы мироздания.
Избранные стихотворения:

А.А. Блок - крупнейший поэт XX века, яркий представитель такого течения, как символизм. Отчаянный реформатор, он оставил в наследство будущим поэтам новую единицу стихотворного ритма — дольник.
Избранные стихотворения:

С.А. Есенин — один из самых ярких и самобытных поэтов XX столетия. Излюбленной темой его лирики была русская природа, а сам себя поэт называл "последним певцом русской деревни". Природа стала мерилом всего для поэта: любовь, жизнь, веру, силу, любые события - все пропускалось через призму природы.
Избранные стихотворения:

В.В. Маяковский — настоящая глыба литературы, поэт, оставивший огромное творческое наследие. Лирика Маяковского оказала огромное влияние на поэтов следующих поколений. Его смелые эксперименты с размерами стихотворной строки, рифмами, тональностью и формами стали эталоном для представителей русского модерна. Его стихи узнаваемы, а поэтическая лексика изобилует неологизмами. Вошел в историю русской поэзии как создатель собственного стиля.
Избранные стихотворения:

В.Я. Брюсов — еще один представитель символизма в русской поэзии. Много работал над словом, каждая его строка - точно выверенная математическая формула. Воспевал революцию, но большинство его стихотворений - урбанистические.
Избранные стихотворения:

Н.А.Заболоцкий — поклонник школы "космистов", которая приветствовала природу, преображенную руками человека. Отсюда столько эксцентричности, резкости и фантастичности в его лирике. Оценка его творчества всегда была неоднозначной. Одни отмечали его верность импрессионизму, другие говорили о чуждости поэта эпохе. Как бы то ни было, творчество поэта еще ждет подробного изучения истинными любителями изящной словесности.
Избранные стихотворения:

А.А. Ахматова — одна из первых представительниц истинно "женской" поэзии. Ее лирику можно смело назвать "пособием для мужчин о женщинах". Единственная русская поэтесса, получившая Нобелевскую премию по литературе.
Избранные стихотворения:

М.И. Цветаева — еще одна адептка женской лирической школы. Во многом продолжила традиции А. Ахматовой, но при этом всегда оставалась самобытной и узнаваемой. Многие стихотворения Цветаевой стали известными песнями.
Избранные стихотворения:

Б. Л. Пастернак — известный поэт и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе. В своей лирике поднимал актуальные темы: социализма, войны, положения человека в современном ему обществе. Одна из главных заслуг Пастернака в том, что он открыл миру своеобразие грузинской поэзии. Его переводы, искренний интерес и любовь к культуре Грузии - это огромный вклад в сокровищницу мировой культуры.
Избранные стихотворения:

А.Т. Твардовский. Неоднозначное толкование творчества этого поэта связано с тем, что долгое время Твардовский являлся "официальным лицом" советской поэзии. Но его творчество выбивается из жестких рамок "социалистического реализма". Также поэт создает целый цикл стихотворений о войне. А его сатира стала отправной точкой для развития сатирической поэзии.
Избранные стихотворения:
С началом 90-х годов русская поэзия переживает новый виток развития. Происходит смена идеалов, общество вновь начинает отрицать все старое. На уровне лирики это вылилось в появление новых литературных течений: постмодернизма, концептуализма и метареализма.
Доклад 7 класс.
В сложное для России время, в период политического перелома, в сложных социально-бытовых условиях русские поэты обращаются в своих художественных произведениях к подлинным духовным ценностям, пишут о нравственности, морали, милосердии и сострадании.
Например, пейзажное стихотворение И.А. Бунина «Вечер» принадлежит к философской лирике. Лирическое произведение написано в форме сонета. Лирический герой размышляет о счастье:
О счастье мы всегда лишь вспоминаем, А счастье всюду. Может быть, оно Вот этот сад осенний за сараем И чистый воздух, льющийся в окно.
Финальная строка стихотворения по глубине и объемности роднится по смыслу с библейской мудростью: «Царство Бо- жие внутри вас»:
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
Человек только тогда поистине счастлив, когда чувствует свою сопряженность, свое родство со всем живым на земле, со всей Вселенной, со всей природой.
А в стихотворении А.А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» (1912) лирический герой утратил высшие духовные ценности. Стихотворение посвящено «страшному миру». Лирический герой - человек, утративший душу, забывший о любви, сострадании, милосердии. Кольцевая композиция произведения раскрывает его проблематику: бессмысленность и тусклость существования, невозможность найти выход из создавшегося положения:
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века - Все будет так. Исхода нет.
Где же человек может обрести духовные ценности? По мнению того же А. Блока, в слиянии с Родиной. Родина для А. Блока понятие многогранное. В цикле «На поле Куликовом» (1919) поэт пишет об историческом прошлом Руси. Еще в 1908 году А. Блок писал К.С. Станиславскому: «В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России... Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это - первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный... Недаром, может быть, только внешне наивно, внешне бессвязно, произношу я имя: Россия. Ведь здесь - жизнь или смерть, счастье или погибель». Цикл «На поле Куликовом» состоит из пяти стихотворений. В примечании к циклу Блок писал: «Куликовская битва принадлежит... к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди». Лирический герой цикла ощущает себя современником двух эпох. Первое стихотворение цикла играет роль пролога и вводит тему России:
О Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь!..
На необозримых просторах Руси идет «вечный бой», «летит, летит степная кобылица». В третьем стихотворении появляется символический образ Богородицы как воплощение светлого, чистого идеала, который помогает выстоять в годину тяжелых испытаний:
И когда, наутро, тучей черной Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный Светел навсегда.
Заключительное стихотворение цикла окончательно проясняет его общий замысел: поэт обращается к прошлому для того, чтобы найти соответствия настоящему. По мнению Блока, время «возвращения» наступает, грядут решающие события, которые по своему накалу, размаху не уступают Куликовской битве. Цикл завершается строками, написанными классическим четырехстопным ямбом, в которых выражена устремленность лирического героя в будущее:
Не может сердце жить покоем, Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. - Молись!
И В.В. Маяковский в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» размышляет о пороках современного общества, недостатках людей. Как и многие произведения поэта, данное стихотворение имеет сюжет: люди, увидев упавшую лошадь, продолжают заниматься своими делами, исчезло сострадание, милосердное отношение к беззащитному существу. И только лирический герой почувствовал «какую-то общую звериную тоску»:
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте-
Чего вы думаете, что вы их плоше?...
Знаменитая фраза из поэтического произведения: «...все мы немножко лошади» - стала фразеологизмом. В жизни каждого человека наступает такой период, когда он нуждается в сочувствии, сострадании, поддержке. Стихотворение раскрывает духовные ценности, учит доброте, милосердию, человечности. Атмосферу трагического одиночества создают различные поэтические приемы. Самый распространенный среди них: прием звукописи (описание предмета передано через его звуковое сопровождение). В данном стихотворении подобранное сочетание звуков передает голоса улицы: «сгрудились, смех зазвенел и зазвякал», - стук лошадиных копыт:
Били копыта.
Пели будто: Гриб. Грабь. Гроб. Груб.
Нетрадиционное сочетание слов используется поэтом для передачи изображаемого конфликта: «улица опрокинулась», «смеялся Кузнецкий», «улица скользила». Особая рифмовка поэтического стихотворения также способствует нагнетанию тягостной атмосферы одиночества живого существа - лошади в толпе зевак:
Лошадь на круп
Грохнулась,
За зевакой зевака,
Штаны пришедшие Кузнецким клешить
Сгрудились,
Смех зазвенел и зазвякал:
Лошадь упала!
Упала лошадь! -
В.В. Маяковский использует в стихотворении различные художественно-выразительные средства, которые создают особую атмосферу, делают изображаемую поэтическую картину более яркой, выразительной.
Например, метафора «льдом обута» передает восприятие лошади: скользит улица, а не лошадь. Инверсия «штаны пришедшие Кузнецким клешить» раскрывает место и время действия стихотворения: торговые ряды Кузнецкого моста, особенно модным в то время было носить брюки - клеш.
Описываемое писателем происшествие оставляет тягостное впечатление у читателя, но финал стихотворения оптимистичен, так как в образе лирического героя лошадь нашла сопереживающего человека:
Может быть старая -
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалось пошла,
рванулась,
встала на ноги,
Финал стихотворения символичен: лошадь вспоминает детство - самую беззаботную пору жизни, когда каждый мечтает о счастливом будущем, надеется на лучшую жизнь:
И все ей казалось - Она жеребенок, И стоило жить, И работать стоило.
В поэзии С.А. Есенина лирический герой обретает «вечные ценности» тоже в слиянии с природой. Тема природы связана в есенинской поэзии с олицетворением живых существ. Например, в стихотворении «Песнь о собаке» (1915) у матери-собаки отняли «рыжих семерых щенят». Чистый натурализм («ощенила сука», «причесывая языком», «слизывая пот с боков») соединяется у Есенина с глубоким лиризмом («струился снежок подталый», «долго, долго дрожала воды незамершей гладь», «в синюю высь звонко глядела», «месяц скользил тонкий», «золотыми звездами в снег»). Стихотворение сюжетно: человек («хмурый хозяин»), не считаясь с чувствами собаки, утопил ее щенят. Поэтом передано истинное горе животного:
А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков.
Последнее четверостишие является оксюмороном, с помощью которого описана невозможность существования в одном мире жестокого человека и собаки-матери, сознательно лишенной собственных детей:
И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег.
Так, поэты начала XX века, как и многие русские люди, заняты поисками «вечных ценностей», которые можно обрести в слиянии с Родиной, природой, самостоятельно вырабатывая в себе лучшие душевные качества: милосердие, сострадание, доброту.
Вопросы по докладу:
1) Кто из русских поэтов начала XX века обращается к «вечным ценностям»?
2) Что происходит с человеком, по мнению А. Блока, когда он утрачивает нравственные понятия? (Смотри анализ стихотворения А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...»)
3) Как у В. Маяковского раскрывается тема милосердия в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»?
4) О чем стихотворение С.А. Есенина «Песнь о собаке»?
В конце 19 — начале 20 века радикально преображаются все стороны русской жизни: политика, экономика, наука, технология, культура, искусство. Возникают различные, иногда прямо противоположные, оценки социально-экономических и культурных перспектив развития страны. Общим же становится ощущение наступления новой эпохи, несущей смену политической ситуации и переоценку прежних духовных и эстетических идеалов. Литература не могла не откликнуться на коренные изменения в жизни страны. Происходит пересмотр художественных ориентиров, кардинальное обновление литературных приёмов. В это время особенно динамично развивается русская поэзия. Чуть позже этот период получит название «поэтического ренессанса» или Серебряного века русской литературы.
Реализм в начале 20 века
Реализм не исчезает, он продолжает развиваться. Ещё активно работают Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и В.Г. Короленко, уже мощно заявили о себе М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн... В рамках эстетики реализма нашли яркое проявление творческие индивидуальности писателей 19 столетия, их гражданская позиция и нравственные идеалы — в реализме в равной мере отразились взгляды авторов, разделяющих христианское, прежде всего православное, миропонимание, — от Ф.М. Достоевского до И.А. Бунина, и тех, для кого это миропонимание было чуждо, — от В.Г. Белинского до М. Горького.
Однако в начале 20 столетия многих литераторов эстетика реализма уже не удовлетворяла — начинают возникать новые эстетические школы. Писатели объединяются в различные группы, выдвигают творческие принципы, участвуют в полемиках — утверждаются литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм и др.
Символизм в начале 20 века
Русский символизм, крупнейшее из модернистских течений, зарождался не только как литературное явление, но и как особое мировоззрение, соединяющее в себе художественное, философское и религиозное начала. Датой возникновение новой эстетической системы принято считать 1892 гож, когда Д.С. Мережковский сделал доклад "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы". В нём были провозглашены главные принципы будущих символистов: «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Центральное место в эстетике символизма было отведено символу, образу, обладающему потенциальной неисчерпаемостью смысла.
Рациональному познанию мира символисты противопоставили конструирование мира в творчестве, познание окружающего через искусство, которое В. Брюсов определил как "постижение мира иными, не рассудочными путями". В мифологии разных народов символисты находили универсальные философские модели, с помощью которых возможно постижение глубинных основ человеческой души и решение духовных проблем современности. С особым вниманием представители этого направления относились и к наследию русской классической литературы — в работах и статьях символистов нашли отражение новые интерпретации творчества Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тютчева. Символизм дал культуре имена выдающихся писателей — Д. Мережковского, А. Блока, Андрея Белого, В. Брюсова; эстетика символизма имела огромное влияние на многих представителей других литературных течений.
Акмеизм в начале 20 века
Акмеизм родился в лоне символизма: группа молодых поэтов сначала основали литературное объединение «Цех поэтов», а затем провозгласили себя представителями нового литературного течения — акмеизма (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, вершина). Его главные представители — Н. Гумилёв, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам. В отличие от символистов, стремящихся познать непознаваемое, постичь высшие сущности, акмеисты вновь обратились к ценности человеческой жизни, многообразию яркого земного мира. Главным же требованием к художественной форме произведений стала живописная чёткость образов, выверенная и точная композиция, стилистическое равновесие, отточенность деталей. Важнейшее место в эстетической системе ценностей акмеисты отводили памяти — категории, связанной с сохранением лучших отечественных традиций и мирового культурного наследия.
Футуризм в начале 20 века
Уничижительные отзывы о предшествующей и современной литературе давали представители другого модернистского течения — футуризма (от лат. futurum — будущее). Необходимым условием существования этого литературного явления его представители считали атмосферу эпатажа, вызова общественному вкусу, литературного скандала. Тяга футуристов к массовым театрализованным действиям с переодеваниями, раскрашиванием лиц и рук была вызвана представлением о том, что поэзия должна выйти из книг на площадь, зазвучать перед зрителями-слушателями. Футуристы (В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Кручёных, Е. Гуро и др.) выдвинули программу преображения мира с помощью нового искусства, отказавшегося от наследия предшественников. При этом, в отличие от представителей других литературных течений, в обосновании творчества они опирались на фундаментальные науки — математику, физику, филологию. Формально-стилевыми особенностями поэзии футуризма стало обновление значения многих слов, словотворчество, отказ от знаков препинания, особое графическое оформление стихов, депоэтизация языка (введение вульгаризмов, технических терминов, уничтожение привычных границ между «высоким» и «низким»).
Вывод
Таким образом, в истории русской культуры начало 20 века отмечено появлением многообразных литературных течений, различных эстетических взглядов и школ. Однако самобытные писатели, подлинные художники слова преодолевали узкие рамки деклараций, создавали высокохудожественные произведения, пережившие свою эпоху и вошедшие в сокровищницу русской литературы.
Важнейшей особенностью начинающегося 20 века была всеобщая тяга к культуре. Не быть на премьере спектакля в театре, не присутствовать на вечере самобытного и уже нашумевшего поэта, в литературных гостиных и салонах, не читать только что вышедшей поэтической книги считалось признаком дурного вкуса, несовременным, не модным. Когда культура становится модным явлением — это хороший признак. «Мода на культуру» — не новое для России явление. Так было во времена В.А. Жуковского и А.С. Пушкина: вспомним «Зелёную лампу» и «Арзамас», «Общество любителей российской словесности» и др. В начале нового века, ровно через сто лет, ситуация практически повторилась. Серебряный век пришёл на смену веку золотому, поддерживая и сохраняя связь времён.
В 20-е годы двадцатого столетия у Есенина наблюдается подъем в творческой деятельности. Он оказывается чуть ли не единственным поэтом, продолжающим создавать лирические произведения. Тогдашняя обстановка была такова, что многие советские литераторы вообще отрицали существование лирики в свете революционной эпохи. Сергей Есенин, можно сказать, вопреки всему доказал, что лирическая поэзия никак не противоречит существующей ситуации в стране. Скорее наоборот, людям пора оставить оружие и обратить внимание на прекрасное, вечное. Лирика поэта отличается глубоким психологизмом, зрелостью, а также безупречна в плане художественного оформления.
Лирические произведения Сергея Есенина полны четкими образами, которые указывают на чувства и переживания автора, раскрывают красоту человеческой души: «Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил...». Есенин являлся, в какой-то мере, новатором в русской литературе. Для него характеры необычные для того времени образы. Только у этого автора «вечер черные брови насопил», «закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на луну». При создании стихов Есенин использует различные художественные приемы. К примеру, стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...» характеризуется и оригинальностью формы, и новизной содержания. Удивительную эмоциональность придают стихотворению риторические обращения: «Дух бродяжий, ты все реже и реже...», «Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» Читая стихотворение, можно почувствовать грусть автора, некоторую временную обреченность: «Все пройдет, как белых яблонь дым». Есенин понимает, что все рано или поздно заканчивается, как сейчас проходит его молодость. Прошлое одновременно и прекрасно, и уже недосягаемо: «О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств». Для этого стихотворения также характерны эмоциональные песенные отрицания, олицетворения и символы. Вполне реалистичные мысли здесь сочетаются с метафорическими образами. Чувство грусти звучит во многих произведениях Сергея Есенина. Зачастую в его стихах отражаются личные драмы, переживания, а также раскрывается о время, в которое пришлось жить и творить поэту.
В известном стихотворении «Отговорила роща золотая...» раскрывается сложное психологическое состояние автора. С первых слов чувствуется неясная тревога. Роща не только отговорила, но отговорила «березовым, веселым языком». Здесь ясно видна скорбь автора о чем-то прошедшем, о уже минувших днях. С каждой строчкой грусть становится глубже: «И , печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком», «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть». Неотвратимо быстро летит время, ничто не может его остановить, однако все идет так, как должно быть. Есенинские метафоры погружают читателя в удивительный мир образов: «О всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом». Есенин говорил, что «жизнь образа огромна и разливчата». Именно это он доказывал каждым своим произведением. В цикле стихов «Персидские мотивы» он использует элементы напевного стиха: частые звуковые повторы, использование вопросительных и восклицательных предложений, что в свою очередь создает определенные интонации, кольцевое построение строф, повторение строки в пределах одной строфы. Нередко простые рифмы сочетаются со сложными составными, которые несут основную смысловую нагрузку: «и крик в повесе - и кротких песен». Из многих стихов Есенина заметно его трепетное отношение к цвету. Можно даже выделить любимые цвета автора - синий, золотой, голубой. В древнерусской цветовой традиции ясно определяется символика этих цветов. Поэт же выступает настоящим художником. Май видится ему синим, а июнь - голубым. Сердце может стать золотой глыбой, а буйная молодость - это золотая сорвиголова.
Много стихов у Есенина посвящено женщине. Любовь для поэта - это необъяснимое и светлое чудо: «Тот, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста». Прекрасное чувство, по мнению поэта, способно исцелить любую, даже разочарованную душу. Любовная лирика Есенина наполнена разнообразными эмоциями. Это и радость новой встречи, и порыв, и грусть, и тоска по возлюбленной и отчаяние. В последние годы тема любви сливается у Сергея Есенина с темой Родины. и любовь у поэта возможны только на родной земле, в кругу близких и любящих людей. Образ матери походит через все творчество Есенина. Мать - это не только человек, давший жизнь, но та, которая щедро оделяет песенным талантом своих детей. Для поэта это самый близкий человек. Автор награждает ее эпитетами: милая, добрая, старая, нежная. В стихотворении «Письмо матери» Есенин в полной мере выражает свои сыновьи чувства:
Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет.
Лирический образ вещи в поэзии двадцатого века
Трудно понять пути новой русской поэзии, не проследив и не уяснив судьбу вещи в ней: от вспомогательного, обстановочного элемента – к первостепенной лирической величине – и затем, по крайней мере, в одной из тенденций, к ее расщеплению, дематериализации и исчезновению за пологом слова и звука.
Разумеется, образ вещи может быть дан в литературе и, значит, в лирике только словом, через слово. Но это не означает, что всякое именование вещи выдвигает на первый план ее образ. В поэзии – гораздо больше, чем в повествовании, само слово является образосозидающим. Лишь когда в слове о вещи не выпячена его лексическая новизна, погашена его стилистическая характерность (поэтизм, прозаизм, диалектизм, вульгаризм и пр.), когда вещественные значения не подмяты поэтическим корнесловием («В волчцах волочась за чулками…» – или опять-таки у Пастернака: «… чайный и шалый зачаженный бутон» – бутон уже не виден) – тогда только образ вещи действительно просвечивает сквозь слово как самостоятельный лирический компонент. Поясню простым примером – стихотворением раннего Есенина «В хате»:
Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц.
А на лавке за солонкою -
Шелуха сырых яиц.
Это типичный натюрморт в лирике, с «настроением» (милое детство!), с признаками нового зрения (обилие ближних планов, благодаря которым предметы не просто детально обозначены, а именно лирически облюбованы). Но легко заметить, что вещность всех поименованных здесь вещей не одинаково интенсивна. Диалектные и специфически «деревенские» слова слегка как бы развеществляют то, что ими названо. «Шелуха сырых яиц» гораздо, так сказать, материальней, чем драчены, для приготовления которых были только что разбиты эти яйца, а «тараканы» вещественней «попелиц». В общем, эта яичная скорлупа – единственно подлинная новая вещь в наполненном вещами маленьком этюде Есенина; пройдя через стилистически нейтральное слово, она удивляет именно как предмет, до сих пор не присутствовавший в поэзии, не исключая поэзии с бытовой и фольклорной окраской.
Еще одно, столь же трудноуследимое, но потребующееся в дальнейшем разграничение – между лирическим, с одной стороны, и изобразительно-обстановочным, с другой, – образом предмета. Моменты изобразительности, обстановочности неизбежны в лирике – искусстве, пусть по традиционной классификации «выразительном», однако связанном с ситуацией, с конкретностью места и времени, в отличие от музыки или нефигуративного орнамента. «Она сидела на полу / И груду писем разбирала», – это эпизод из тютчевского лирического романа («денисьевского цикла»), и он требует предметного упора, элементов сценической обстановки, – которые и даны: в виде груды писем. Но чтобы предмет зажил собственно лирической жизнью, он должен быть втянут в сеть субъективнодушевных ассоциаций или символических соответствий. Он должен свободно входить в состав всех метафорических сопряжений – и как реалия, и как идеальное подобие, ее поясняющее, как то, с чем реалия сравнивается; должен без труда обосновываться на обеих «половинах» иносказания, тропа.
Таким образом, «мир вещей» в принципе не составляет специфического начала в лирике, и в границах целых эпох или стилей он может лежать на периферии ее возможностей. В определенном смысле мощная обстановочность Державина, добросовестные реалии Некрасова или даже летуче-скупой абрис у Фета: «Рояль был весь раскрыт…» – явления одного порядка. Вещи здесь по преимуществу типичны, а не символичны; они «работают» по принципу метонимии (конкретная частность свидетельствует о целом, например, о некоем укладе с его мирочувствием), а не по принципу метафоры (ассоциативный мостик от одной сферы восприятий к другой). «Шекснинска стерлядь» Державина или «крест да пуговица» в некрасовской песне про Калистратушку, как говорится, не равны себе: за ними пласты жизни, бытовой и духовной, – но взятые не в специально лирическом модусе.
Притом для классической лирики очень важна отобранность, отборность вещей. Я имею в виду не только ту общепонятную сторону дела, что вещи, иерархически заниженные, из нижних слоев быта, с трудом проникали в высокую лирику, – окруженные извиняющим их комическим ореолом («фламандской школы пестрый сор») или стилистически отмеченные в качестве дерзких прозаизмов. Я имею в виду другое: лирика XIX века не была заставлена и захламлена, в отношении мира вещей в ней действовала своеобразная бритва Оккама – столько предметности, сколько нужно, чтобы жизненно укоренить лирический импульс и дать ему разгон, – но не больше. Рядом с раскрытым роялем Фета немыслим столик, на котором дымится чашка шоколада, или трюмо, в котором отражается певица, – это было бы просто кощунством. То же очевидно, если обратиться к классической медитативной лирике, где отправной точкой для раздумья служит памятный или чем-либо поучительный предмет, вещь: «Цветок засохший, безуханный, / Забытый в книге вижу я…» (А. С. Пушкин); «На серебряные шпоры / Я в раздумии гляжу…» (М. Ю. Лермонтов). Эта вещь оказывается только берегом, от которого отталкивается, чтобы уплыть, ладья поэтического воображения; всякая ее конкретизация и окруженность другими вещами ощущались бы здесь как избыточные.
Итак, до сравнительно недавнего времени мир вещей проникал в лирику только сквозь ряд строгих фильтров: стилистической уместности, типичности, причастности к заданной ситуации (о мире природы, тоже предметном в своем роде, я не говорю – в прошлом веке он уже был насыщен давней лирической жизнью, взаимопроникновением «я» и «не-я»: «Все во мне и я во всем»). И вдруг – в отношении вещей – все в поэзии переменилось. Фильтры внезапно лопнули, и вещественность цивилизованного мира хлынула в лирику. Лирика встала перед проблемой освоения вещи не периферией своих средств, а самым своим существом, ядром своей впечатлительности и выразительности. О том, что это так, мне кажется, свидетельствуют все направления новой поэзии, начиная даже с символизма. Если на минуту отвлечься от социально-идеологической стороны их споров, манифестов и рекомендаций, то едва ли не всякий раз в остатке получится вопрос о смысле и способе присутствия вещи в поэзии. В первой четверти двадцатого века спорили о предметном образе (и о предметности слова) так же горячо, как в первой четверти девятнадцатого – о языке и стиле. Уже девиз «от реального к реальнейшему» постулировал в лирике мир реалий, хотя и собирался сделать его мостом к миру сущностей. Постсимволистские течения борются с символизмом за самодовление реалий (акмеизм), за расширение их круга, выход на улицу (футуризм, фактически уже упрежденный экспрессионистскими опытами Брюсова, Блока, Белого); затем идут имажинисты с их поисками «органического образа», конструктивисты с их «локальным приемом», «обэриуты» с их предпочтением мужественной конкретности материальных предметов всяческим «переживаниям», – куда ни кинь, лирическое слово воспринимается как опредмечивающее, по-своему сталкивающее и стягивающее предметы.
Конечно, показательны в первую очередь не теории и эксперименты, а полноценная поэтическая практика художников-творцов. Между ними в интересующем нас ракурсе окажется больше сходства, чем различий. По воспоминанию Пастернака, Маяковский как-то сказал ему: «Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге». Но это только летучий афоризм, характеризующий программность Маяковского, а не наклонности Пастернака. Последний любил, мог любить молнию в электрическом утюге не меньше, чем Маяковский, хотя и по-другому: не как техническое достижение, а как знак домоводства, пленительной женской хлопотливости. Дело не в мотиве, а в самом лирическом приятии вещи. Пресловутый «утюг» не мог быть для Пастернака, также как и для Маяковского, низким, а главное – не мог быть немым предметом.
Но прежде чем обратиться к опыту самих стихов, естественно будет задаться вопросом, откуда же взялась эта экспансия вещей в лирику, начавшаяся после первой русской революции, в эпоху «модерна», и к рубежу 1917 года достигшая решительной силы? Ближайшее (хотя и слишком общее, поскольку речь идет о самобытных путях искусства) объяснение находим в вещном пафосе позднекапиталистической цивилизации, которая стала выбрасывать на рынок множество новых «комфортных» вещей, культивировать потребности в них и прославлять эти потребности как симптомы роста и расширения человеческой индивидуальности. Сейчас, когда новые вещи, как на ровно движущейся ленте конвейера, съезжают к нам в жизнь и оттуда – беспрепятственно – в искусство (так что, например, умиленное манипулирование автоматом с газированной водой, как предметом в некотором роде метафизическим, сразу дало почувствовать, в известном стихотворении Б. Ахмадулиной, позу и натяжку), – короче говоря, в наше привычно-затоваренное время трудно уже представить всю претенциозность и весь психологический эффект того натиска, который когда-то испытали рафинированные пласты духовной культуры со стороны нового мира вещей. На рубеже веков немецкий экономист и философ В. Зомбарт, энтузиаст наступательного капиталистического этоса, писал с интонацией торжества: «… поколению литераторов, философов и эстетиков, бедных кошельком, но богатых сердцем, богатых sentiments, но страшно бедных sensibilite?, несвойственно было из принципа или по недостатку средств настоящее понимание материального благополучия, украшения внешней жизни. Даже Гёте, который принадлежал к более светской эпохе, который не чужд был наслаждений и у которого не было недостатка во вкусе к роскоши и блеску, даже Гёте жил в доме, убранство которого нашему теперешнему вкусу представляется жалким и нищенским… Даже художники не знали волшебного очарования обстановки из красивых вещей, они ничего не понимали в искусстве жить в красоте: они были аскетами или пуристами. Они или одевались как назореи в верблюжий волос и питались акридами и диким медом, или вели жизнь гимназического учителя или чиновника». Теперь же, по словам Зомбарта, «все жизнепонимание претерпевает перемены. Оно становится из преимущественно литературного преимущественно художественным, из абстрактно-идеалистического чувственным. Пробуждается вкус к видимому здешнего мира, красивой форме даже внешних предметов для радости жизни и ее наслаждений… В настоящее время впереди всех по части эстетической обстановки идут магазины, торгующие парфюмерными товарами и галстуками, магазины белья, салоны для завивки дам, салоны для стрижки и бритья, фотографические мастерские и т. д. Деловая и торговая жизнь пропитывается красотой». Этот довольно-таки агрессивный вызов просачивался сквозь все поры жизни и не мог не породить ответной лирической реакции, той или иной. От пассажей Зомбарта легко перекинуть мостик к миру эгофутуристических поэз Северянина, к некоторым раннеакмеистическим «радостям жизни». Но даже для того, чтобы быть отвергнутым, этот новый «дизайн жизни» должен был быть воспринят внутрь лирической чувствительности и как-то переварен ею, в форме ли мелькающих бликов «таинственной пошлости», или как видение «бунта вещей», возвращающихся к растительно-животному, живому миру, который послужил для них сырьем, или еще как-нибудь.
Однако было бы наивно объяснять брак лиризма с вещностью исключительно влиянием на жизнь массового производства, его щедрых соблазнов и пороков. Чтобы учесть неточность этой социологической проекции, надо вспомнить, что, если умножение вещей в их количестве и разнообразии и могло вызвать определенную перестройку поэтического мира, то оскудение вещами нисколько эту перестройку не задержало, наоборот – обострило. «Серная спичка», которая могла бы согреть зябнущего на задворках жизни поэта, – тоже новая вещь, и притом доросшая уже до символа, поэтически куда более значительная, чем «алмазные сливки иль вафля с начинкой» в ранних стихах того же автора – Осипа Мандельштама. Когда вещи по-новому прочно вошли в лирику, выяснилось, что им не надо быть ни красивыми, ни вызывающе пошлыми, ни технически удивительными – им достаточно быть простыми, так сказать, демократическими вещами, чтобы конденсировать энергию лирического чувствования. Какой-нибудь «выкройки образчик» становится свидетелем лирической драмы, как «цветок засохший», и у Пастернака (герой чьих стихов плачет над этой «выкройкой») именно «уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок» облекается высшим лирическим достоинством.
Дело, по-видимому, еще было в общей переориентировке внимания с вечного на текущее, которую переживает культура накануне Первой мировой войны. В какой-то момент культурной истории вечные темы лирики – природа, любовь, смерть, душа, Бог – зацепились за мир созданных человеком вещей и уже словно бы не могли обрести себе выражение в обход этого мира. Так, у Анненского смерть сопряглась с фенолом, которым предохраняют от тления мертвое тело. Это современная смерть, современный ужас смерти, вечная тема, пропущенная сквозь сегодняшнее: «… левкоем и фенолом / Равнодушно дышащая Дама». (Решимость лирики в таких вещах подстегивалась, конечно, романом; всем памятна жуть заключительной сцены «Идиота», где Рогожин объясняет Мышкину, как он накупил склянок с дезинфицирующей жидкостью, чтобы тело Настасьи Филипповны подольше сохранилось.)
Сюда же надо добавить сдвиг мысли, «любомудрия» от натурфилософии к культурфилософии. Позволю себе каламбур: от твари к утвари. Поэзия впрямую не зависима от философских интересов своего времени, но все же соотносительна с ними. «Лирику природы» потеснила неожиданно отвоевавшая себе много места «лирика культуры», и, главное, оба мира стали взаимопроницаемы и равноправны. Мало того что Природу можно стало сравнивать с Римом и пояснять ее сущность его историческими контурами (ранний Мандельштам), что в лесе стала чудиться колоннада, а не обратно (ранний Пастернак). Но и в самой «лирике культуры» было погашено философски влиятельное различение между культурой и цивилизацией – культурой, которая органически сопутствует природе, и цивилизацией, которая ей противоположна. В стихотворении молодого Мандельштама «Теннис» спортсмен разыгрывает партию с девушкой-партнершей, «как аттический боец, в своего врага влюбленный». Теннисный мячик залетел, как видим, высоко, очень высоко.
Разительный перепад между космологическим, натурфилософским и, с другой стороны, культурно-вещным, культурно-материальным подходом к одному и тому же источнику впечатлений могут проиллюстрировать следующие две выдержки. Это, правда, не стихи, а проза, писавшаяся в конце 20-х – начале 30-х годов, но проза двух больших поэтов, сохраняющая все признаки их исходной, первоначальной поэтической образности. Короче, я цитирую два путешествия по Армении – Белого и Мандельштама.
Андрей Белый: «Легендою жизни потухших вулканов меняются местности в лапы седых бронтозавров <…> в спины драконов, едва отливающих розовым персиком, в золотокарие шерсти, в гранаты хребта позвоночного, в головы, вставшие из аметистовой тени… За Караклисом исчезла в ландшафте земля, ставши светом и воздухом <…> там оттенки текучи, как статуи в русле неизменного очерка гор, их сквозных переливов, слагающих светопись кряжей Памбака…».
О. Мандельштам: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вливаются в стакан румяного чаю и расходятся в нем кучевыми клубнями… Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзинки его садов – отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано».
Оба эти эпизода написаны тогда, когда спор символизма с акмеизмом давно отошел в прошлое, но они, как было сказано, являют рецидив юности каждого из поэтов. Мы же, глядя из нашего времени, равно удалены, кажется, от обоих способов восприятия. Нам уже представляется совершенно недостоверным – и как физика, и как «метафизика» – золотой, парчевый, аметистовый космос Андрея Белого, увитый мифическими телами воздушных драконов, осыпанный драгоценными каменьями, испещренный печатками гностических эмблем. Но испарилась и освободительная свежесть мандельштамовского (как сказано в одной из его программных статей) «сознательного окружения человека утварью». Нарочитая сподручность того, что «утварью» никогда не станет и не должно становиться: превращение облаков в сливки, селения – в корзинку из цветочного магазина (или еще оттуда же: землянки отшельников – дачные погреба; «гробницы, разбросанные на манер цветника»; севанский климат – «золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца») – не раскрепощает уже, а смутно тревожит: чересчур удобный и профанный, мир этот понуждает вспомнить не об античных ларах и пенатах, мечтавшихся Мандельштаму, а – воспользуюсь выражением Андрея Битова – о «пляжной цивилизации».
Взгляд на природу и вообще на большой мир как на подобие, грубо говоря, склада – салона или амбара, все равно – бытовых вещей не есть только акмеистическая отметина Мандельштама. Ту же вещно-бытовую фамильяризацию природы мы находим у самых разных поэтов в постсимволистские 10-е годы. Для Пастернака в это время «Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла», и если мы обратимся к небесно-природному хозяйству раннего Есенина, то и там обнаружим изрядно утвари, которая более плавно сопрягается с зорями и водами потому, что она – не городская. Смешать природное с миром искусственных вещей, уподобить одно другому, уравнять то и другое в достоинстве, приписать природе не просто сотворенность, а некую руко творность (когда даже самый Бог созидает не творческим словом «Да будет», а возится у станка: «Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа / И с дней Экклезиаста / Не покидал поста / За теской алебастра») – такова была поэтическая философия времени. Очень интересно проследить за мотивом окна в поэзии Анненского, Мандельштама, Пастернака. Оно – как бы грань между заоконным космосом небес и деревьев и интерьером комнаты, но грань не разделяющая, а роднящая. Рисунок ветвей на небе, как на эмали или листе бумаги, вставленном в раму (у Анненского и Мандельштама), или, наоборот, сад, вбегающий в окно или трюмо, чтобы поселиться среди комнатной толчеи вещей и вывести их наружу (Пастернак), – вот композиция таких натюрмортов с элементами пейзажа. Можно было идти обратным путем – как водилось у футуристов: не фамильяризация природы, а романтизация вещи, повышение ее в чине. Молодой Маяковский выводит за собой в космическую даль мир вывесок и витрин: «Я сразу смазал карту будня, / Плеснувши краски из стакана, / Я угадал на блюде студня / Косые скулы океана, / На чешуе жестяной рыбы / Прочел я зовы новых губ…» Казалось бы, это совершеннейший контраст тому, когда поэт отождествляет себя с веткой после дождя и, держа руку-ветку на весу, убеждается: «У капель тяжесть запонок» (Б. Пастернак). Тем не менее тенденция едина: природа как генератор лирических тем утрачивает свою неприкосновенность и чистоту. Можно ли здесь увидеть отражение орудийного и потребительского отношения к природе, свойственного все той же полосе цивилизации? Такой вывод, идеологически не лишенный смысла, погрешал бы эстетически, зачеркивая непреходящее в завоеваниях новой поэзии. Поэтому я предпочитаю поставить тут многоточие…
На первом этапе открытие вещей в новой лирике мало чем отличается от такового в прозе: это экстенсивное освоение прежде незнакомых или непривычных именно в лирической сфере реалий. Втягиваясь в личный мир поэта, такого рода вещи, конечно, преображаются, получают подсветку и таинственную прибавку к своему прямому значению: но пока они все еще привносят в лирическое стихотворение собственную обстоятельственную микросреду, в отрыве от которой не могут быть ни названы, ни использованы. Блок не боялся новых вещей. Новая удивительная вещь могла стать у него темой стихотворения. Он один из первых – быть может, первый – написал стихотворение о самолете (даже два, но здесь имеется в виду более раннее): «О стальная бесстрастная птица, / Чем ты можешь прославить Творца?» Самолет в этом стихотворении – символ неприемлемой технической цивилизации, ее демонического падения с высоты – безусловно, не изобразительная, а лирическая единица. Но самолет может тут существовать только как часть определенной тематической картины, между ним и внутренним миром лирика сохраняется непереходимая полоса отчуждения. Перемены в лирической судьбе «самолета» можно проиллюстрировать стихотворением позднего Пастернака «Ночью». «Он потонул в тумане, / Исчез в его струе, / Став крестиком на ткани / И меткой на белье»; он же, этот малый стежок швейной иголки, приравнивается звезде, а художник уподобляется бессонному летчику, который, конечно, составляет с самолетом одно целое, его душу. Пастернаковский самолет побывал во всех пластах жизни – от домоводства до славы звездной и творчества, он непроизвольно нарастил множество значений, в том числе имеющих мало общего с прямой его летательной функцией. Можно утверждать, что он лирически обжит.
Был непривычен – не новизной, а невхожестью в прежнюю лирику – и предметный мир блоковской «Незнакомки». И. Анненский в необычайно проницательной статье «О современном лиризме» сразу отметил особое свечение этого обыденно-затертого мира: «Крендель, уже классический, котелки, уключины, диск кривится… и как все это безвкусно – как все нелепо просто до фантастичности… шлагбаумы и дамы – до дерзости некрасиво. А между тем так ведь именно и нужно, чтобы вы почувствовали приближение божества». Но опять-таки все эти вещи – пусть лирически загадочная, но единая среда, сама в себе спаянная и противостоящая мечте. Обстановочное и внутреннее еще размежеваны, располагаясь по ту и по сю сторону жизни души, и нужна мотивировка опьянением, чтобы преграда пала и «перья страуса» закачались «в мозгу». Н. Гумилев, рецензируя новые поэтические книги, в 1912 году писал о пути Блока к предметности: «Во второй книге Блок как будто впервые оглянулся на окружающий его мир вещей и, оглянувшись, обрадовался несказанно…» И дальше: «… мир, облагороженный музыкой, стал по-человечески прекрасным и чистым – весь, от могилы Данте до линялой занавески над больными геранями». Гумилеву в пору его первого акмеистского энтузиазма приятно было заметить эти «линялые занавески». Но он поторопился увидеть в них одну из вещей мира в том смысле, какой мог быть близок его собственным устремлениям. Занавески эти живут в своем стиле – песенном (так что они не «облагорожены» музыкой, а прямо-таки продиктованы ею) – и в своем бытовом срезе: как аксессуар «мещанского житья» для ролевой лирики Блока; они совсем не то, что у него же – портрет «в его простой оправе», подлинно лирический предмет, не нуждающийся в побочных мотивировках, чтобы стать задушевным, но зато и предмет, вполне узаконенный классической поэзией. Иначе говоря, лирика Блока еще не вступает с вещью, тем более с новой вещью, в те интимные отношения, которые станут вскоре неустранимой чертой поэзии, вплоть до сегодня. Слово «еще» ни в малой мере не указывает на какую-либо творческую ограниченность Блока. Напротив, в этом «еще не», возможно, одно из его достоинств как, во многих отношениях, последнего классического поэта.
Подлинный отец русского лирического «вещизма» – конечно, Иннокентий Анненский. Мир «не-Я», в который всегда так жадно и недоуменно вглядывается человеческое «Я», стремясь как-то его разгадать, приручить, гуманизировать, втянуть в свою душевную историю, – этот мир «не-Я» представлен у Анненского именно миром вещей. Если у Тютчева «Ночь хмурая, как зверь стоокий, / Глядит из каждого куста», то у Анненского эта ночь бытия глядит с каждой полки и этажерки, из-под шкафа и из-под дивана. Разумеется, у Анненского есть тончайшие лирические пейзажи, и городские, и на просторе, но очевидно, что нерв его поэзии проходит не здесь. Глаза «не-Я» («Но в самом “Я” от глаз “не-Я” / Ты никуда уйти не можешь») – это у него глаза ближних предметов, а не космических стихий.
В названной статье «Вещный мир» Л. Я. Гинзбург говорит о присутствии в стихах Анненского «прозаизмов» (например, «вал», «шипы» – в устройстве шарманки). Но суть, пожалуй, в том, что эти слова у Анненского стоят уже по ту сторону деления на прозаизмы и поэтизмы и благодаря своей стилистической прозрачности, немаркированности тихо впускают в стих обозначенные ими вещи, с которыми тут же сживаешься. «Винт» и «таксомотор» запоминаются при чтении Блока как слова редкие, необычные. Анненский, давая почувствовать привычность предмета, именует его походя, без всякого нажима.
Анненский первый научился насыщать заурядные «городские» предметы, так сказать, сор цивилизации, излучениями внутренней жизни – своей, человеческой вообще. Сначала это делалось им почти наивно – в виде элементарной аллегории. «Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат, / Те же грустные лакеи, / Тот же гам и тот же чад… Муть вина, нагие кости, / Пепел стынущих сигар…» Это не колоритная обстановка дна, куда «в час назначенный» забредает поэт, чтобы встретить там Незнакомку. Это самый ход существования, аллегорически представленный поэтом в «трактире жизни», написанном вслед пушкинской, очень ценимой Анненским, «Телеге жизни». «А в сенях, поди, не жарко: / Там, поднявши воротник, / У плывущего огарка, / Счеты сводит гробовщик», – читаем в конце, и после такого финала вновь перечитываем стихотворение, чтобы полней уловить иносказательную подкладку этой мнимо-бытовой композиции. Здесь двойная жизнь навязывается вещам почти насильно, но вскоре Анненский сумеет этим вторым планом оживить и одушевить их.
У Анненского есть особый круг стихов, подобный лермонтовским так называемым «иносказательным пейзажам» (параллель, интересная еще и тем, что она дополнительно иллюстрирует скачок от натуры к фабрикату, на который отважилась, в обращении к новым предметам, поэзия). Этих пьес у Лермонтова не так много («Поток», «Парус», «Тучи», «Ночевала тучка золотая…»), но они – сгущенно лермонтовские: малые личные мифы, где лирическое чувство выражается косвенным, целомудренным образом, на древней основе психологического параллелизма. Целый ряд пьес, насыщенных подобной же красотой и печалью существования, можно назвать по аналогии «иносказательными натюрмортами» Анненского. Как и в случае с Лермонтовым, это лишь грань творчества Анненского, но такая, которая врезается в сознание как специфический «анненский элемент», подобный лермонтовскому элементу. «Старая шарманка», «Будильник», «Стальная цикада» – здесь предметы обладают внутридушевным бытием, изживают свой удел, свою судьбу, и хотя, по видимости самобытная, их жизнь вдунута в них человеческим переживанием, исходит из него и к нему же ведет обратно, но мир «не-Я» при этом все-таки получает собственную убедительную долю жизненности и сердечности. Когда в популярнейшем по справедливости стихотворении «То было на Валлен-Коски…» поэт говорит: «Бывает такое небо, / Такая игра лучей, / Что сердцу обида куклы / Обиды своей жалчей», – понятно, что жалуется-то он на свою обиду, на то, что сердце его одиноко, «как старая кукла в волнах». Но и куклу, эту деревяшку, швыряемую в водопад, тоже жаль всерьез, и, однажды наделенная отраженной жизнью, она навсегда остается для нас вправду живой и вправду несчастной. Так жалеть не человеческое умел только Лермонтов, который, по замечанию В. В. Розанова, чувствовал, как больно горе, когда в ее каменную грудь врезается лопата. В «Смычке и струнах» Анненского так же верится тому, что «сердцу скрипки было больно» и что поэту дано это ощутить.
Творческие задачи, связанные с миром вещей, Анненский ставил перед собой осознанно, в ходе глубокой рефлексии над современной ему поэзией. Он считал, что мир природы имеет вечное и неизменное эстетическое значение как мир сущностных стихий, запечатленный в архетипических мифах, к которым современному человеку, живущему в истории и повседневности, нечего добавить. Если такой современный человек захочет найти поэтический образ своей изменчивой, мимобегущей, исторически обусловленной жизни, ему лучше всего обратиться к городской обстановке, где ничего еще не получило освященного преданием мифологически стабильного значения и поэтому может символизировать сиюминутные душевные ситуации. «Там, где на просторе, извечно и спокойно чередуясь во всю ширь, то темнеет день, то тает ночь, где рощи полны дриад и сатиров, а ручьи нимф, где Жизнь и Смерть, Молния и Ураган давно уже обросли метафорами радости и гнева, ужаса и борьбы, – там нечего делать вечно творимым символам… Вам непременно будет казаться, что поэзия просторов, отражая этот, когда-то навек завершенный мир, не может, да и не должна прибавлять к нему ничего нового». Поэтому для Анненского «символизм в поэзии – дитя города. Он культивируется и растет по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы родятся там, где еще нет мифов, но где уже нет веры… Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея».
Сам Анненский в общем остался чужд эффектам морга, зеленого сукна и паноптикума. Чудо его избирательного внимания в том, что он открыл для лирики в предметах, образующих заурядный фон человеческой жизни, психические резонаторы . Это открытие не кажется таким ошеломительным при сопоставлении с развитием психологической прозы: Достоевский, Толстой (например, цепляющийся за ненужные предметы и детали взгляд Анны перед самоубийством), конечно, Чехов; позже, на Западе, – Пруст, Вирджиния Вулф. Но нужно было упасть каким-то ограничениям и запретам именно на путях поэзии, чтобы такое вот общепонятное сцепление чувства с вещью: тоска больного, вперившегося в узор на обоях, и самый узор, как бы вобравший эту тоску, – вошло в стихи, притом расширенное возможностями лиризма до мировой скорби.
По бледно-розовым овалам,
Туманом утра облиты,
Свились букетом небывалым
Стального колера цветы.
………………………….
В однообразьи их томимый,
Поймешь их сладостный гашиш.
Поймешь, на глянце центифолей
Считая медленно мазки…
И строя ромбы поневоле
Между этапами Тоски.
(О том же – «Тоска маятника»: «И лежу я, околдован. / Разве тем и виноват, / Что на белый циферблат / Пышный розан намалеван».) В творчестве Анненского лирическая вещность переживает расцвет, момент равновесия: вещь вполне вводится в права иносказательной жизни, но еще не теряет своей цельности, самотождественности, не расщепляется на пучки ощущений и не заменяется словом о вещи.
Мандельштам, по-своему пройдя эту точку равновесия, стал двигаться от предмета к отслоившимся от него свойствам или к его словесной тени. (Напомню известные слова поэта: «Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности… К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела» (Из статьи «Слово и культура», 1921). Сопоставление с современниками позволяет уловить особенности мандельштамовского подхода к вещи.
Примерно в одно и то же время Пастернак, Есенин и Мандельштам увлеклись «перегонкой» ближних, всего чаще – обыденных, предметов в метафорический ряд. Любопытно сравнить тематически сходное. Мандельштам: «… городская выходит на стогны луна… бледная жница, сходящая в мир бездыханный… желтой соломой бросая на пол деревянный». Пастернак: «Разве только птицы цедят, / В синем небе щебеча, / Ледяной лимон обеден / Сквозь соломинку луча». Есенин: «Скирды солнца в водах лонных…»; «Желтые поводья месяц уронил». Этого достаточно, чтобы понять, что такое образотворчество было универсальным этапом постсимволистской лирики и не составляло, скажем, монополии имажинизма. Но как раз из этой точки – метафорической предметности – пути вещи у трех названных поэтов расходятся. Есенин развивает свои вещные метафоры по архаической и этнографической логике мифа. Как это происходило, можно прочитать в его «Ключах Марии» и в книге А. Марченко о нем, где с особым вниманием освещена зримо-предметная сторона есенинского творчества. У Пастернака в метафорическом удвоении мира огромную роль играют фактурные, чувственные подобья. В основе своей вещная метафора раннего Пастернака исключительно проста и лишь по ходу лирического сюжета извилисто движется в составе развернутых олицетворений, затуманивается звукописью. «Как бронзовой золой жаровень, жуками сыплет сонный сад»; «… палое небо с дорог не подобрано» (после дождя – лоскутья отраженного неба в непросохших лужицах, как палые листья) – это в первую очередь, радостные зрительные открытия. Сделать их, конечно, помогли и посылки «сверхчувственного» характера: вера в высокую ценность предметов малого мира и еще – в оживотворенность и вихревую подвижность всего материально сущего («Но вещи рвут с себя личину, / Теряют власть, роняют честь, / Когда у них есть петь причина, / Когда для ливня повод есть»). Однако зерном своим предметный образ всегда обязан элементарному поэтическому сенсуализму. Даже когда Пастернак обращается к общему и отвлеченному, метод чувственных подобий остается в силе. «Грех думать – ты не из весталок. / Вошла со стулом. / Как с полки, жизнь мою достала / И пыль обдула». Или – о поэзии; о «греческой губке в присосках»: «Тебя б положил я на мокрую доску / Зеленой садовой скамейки. / Расти себе пышные брыжжи и фижмы, / Вбирай облака и овраги, / А ночью, поэзия, я тебя выжму / Во здравие жадной бумаги». Здесь сначала, по простой логике разговорных метафор, материализуется нематериальное: жизнь, прозябавшая в одиноком углу, как заставленная на полку книга; способность поэзии впитывать впечатления. А потом эта условная опредмеченность находит себе самые яркие и ощутимые атрибуты в вещественно-метафорическом ряду. Как бы ни были сложны и текучи эти уподобления, в основе их лежит та простота наглядного сходства, от которой и возможен был шаг к «неслыханной простоте» позднего Пастернака.
Не так – у Мандельштама. Ему вроде бы по-своему была дорога самотождественность вещей, их простое присутствие в мире, так сказать, предметная зернистость мира. Он, как помним, боится бесплотного «пенья Аонид» и зиянья пустоты. И не в 10-х, а уже в 20-х годах он все повторяет: «Но взбитых сливок вечен вкус / И запах апельсинной корки». Однако вещи попадают у него в метафорический ряд на куда более сложных основаниях, чем у Пастернака, и претерпевают там гораздо более радикальную переработку. Хотя бы в этих памятных строках из «Тристий»:
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Прялка стоит в этой комнате, как единственный достоверный предмет посреди теней – запахов вещества. Но прялки-то как раз и нет, есть тишина, которая ничем на прялку не похожа и уподобляется ей не по сходству, а потому, что в лирическом сюжете стихотворения присутствует – нет, полу присутствует – неназванная Пенелопа. Она, правда, не пряла – ткала, а у Мандельштама даже «вышивала» («… в греческом доме любимая всеми жена, / Не Елена – другая, – как долго она вышивала?»), но прялка (кстати, предмет, традиционно сопутствующий именно Пенелопиной «заместительнице» в этом стихотворении – прекрасной Елене) явно перекочевала в крымский из того греческого дома. Притом тут не рационалистический «локальный прием», впоследствии культивировавшийся конструктивистами (заключавшийся в том, чтобы материал для метафор и сравнений черпался из той же среды, что и прямая тема стихотворения). «Прялка» ведь связана все-таки с «тишиной» не только через неотчетливую ниточку, ведущую к греческому эпосу; самый звук прялки – как можно представить себе – дарит покой и умиротворение (сравните у Пушкина: «Или дремлешь под жужжанье своего веретена»). Это не сходство, а тончайшее, отдаленнейшее эхо ощущения («поэтика ассоциаций» – так определяет Л. Я. Гинзбург образный строй Мандельштама). Комната в приведенных строках Мандельштама кажется заполненной предметами, утварью, но на самом деле в ней витают запахи и тени. И о «прялке», здесь возникнувшей, не знаешь, что сказать: вещь ли это, пусть идеально-метафорическая, или только слово о вещи, возбудитель ассоциативного поля значимостей. Здесь вещь и бесплотное слово о ней неразличимо тождественны, как в мандельштамовском Аиде, в царстве мертвых, куда спускается его Психея: «Навстречу беженке спешит толпа теней… Кто держит зеркало, кто баночку духов. Душа ведь – женщина. Ей нравятся безделки». Но, конечно, это только тени «безделок», слова о них, «лес безлиственный прозрачных голосов».
И Пастернак, и Мандельштам с незнакомой прежде настойчивостью вводили в поэзию низшие области сенсуальности – вкус, обоняние (прежде резервировавшееся только за поэтически традиционной областью ароматов) и осязание, «выпуклую радость узнаванья» (по выражению Мандельштама-лирика, оспоривающему слова из его же статьи: «К чему обязательно осязать перстами?»). Эти чувства более оторваны от цельного образа вещи, чем зрение, и более субъективны, чем слух. Они играют большую роль при расщеплении вещи на ее излучения, когда самая вещь – «не-Я» – как бы перестает самобытно существовать, оставляя свой след и росчерк в восприятии. Но если Пастернак при этом обычно не стремится выйти за пределы чувственной достоверности, то у Мандельштама ощутительные качества вещей превращаются в отдельные от этих вещей многосмысленные и даже мифологизированные значимости. Не случайно в ассоциативной символике Мандельштама внимание исследователей привлекает не камень или дерево, солома или соль, а именно каменность, деревянность, сухость, соленость и т. п.
Мандельштам создает волшебную амальгаму словесных значений, в которой конкретность и особность предмета тает без остатка, хотя нагнетается своего рода предметная плотность:
Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет – с муравьиной кислинкой.
От них на губах остается янтарная сухость.
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…
Эта беспредметность, до предела насыщенная энергией расточившегося вещества, тончайшим образом «суггестивна» и пленительна. Но еще шаг – и обнаружится обрыв; предметность мира окончательно станет распадающимся ядерным топливом для создания поэтических шифров. Опасность эта присутствует в современной лирике вместе с доставшимися ей в наследство достижениями большой поэзии первых трех десятилетий XX века. Если обратиться к младшему поэтическому поколению, то очень часто в стихах талантливых людей (ведь именно таланты болеют кризисными немочами искусства, бездарности – более иммунны) поражает неограниченная произвольность ассоциативного ряда, дробление предмета на грани и осколки, перетряхивание этих осколков в каком-то интеллектуальном калейдоскопе. Вот две строфы из принадлежащего поэту-современнику длинного стихотворения – небессмысленного и небезынтересного:
Как замеряют рост идущим на войну,
Как ходит взад-вперед рейсшина параллельно,
Так этот длинный взгляд, приделанный к окну,
Поддерживает мир по принципу кронштейна.
…………………………………………………….
Поддерживает мир. Чтоб плоскость городов
Стояла на весу, как жесткая система.
Пустой кинотеатр и днище гастронома
И веток метроном, забытый между стен.
Автор и наблюдателен к фактурным подобьям, и держит в уме некую заветную мысль. Но создается впечатление, что все здесь может быть всем (ветка – метрономом, взгляд – рейсшиной и кронштейном) – не на основании вселенского родства и свойства, а затем, что все разложимо на семантические кубики качеств.
Ну, а поскольку при «утрате середины» заявившая о себе крайность немедленно порождает другую (порой же они сходятся в пределах одной манеры), то неудивительно, что в лирике новопришедших наметилась и прямо противоположная тенденция. Это – обращение с вещью «по законам прозы», когда она, вещь, берется в оголенно-предметном значении или как «импрессионистическая» деталь: вне одухотворяющей символики и безотносительно к своему звучащему имени, призванному строить звуковое единство строки.
Анализируя такую «стихопрозу» ленинградцев А. Пурина, Н. Кононова и некоторых их ровесников, я в другом месте пыталась обратить внимание на их плененность окружающей предметной средой и не слишком успешные попытки «трансцендировать», вознести ее: «И пусть в теории эти поэты думают, что в отказе от старых оценочных координат, от сопоставления реального с идеальным и состоит новизна, свежесть их ощущения жизни. На практике они предпринимают массу усилий, чтобы приподнять, вернее, укрупнить окружающий их непостигаемый быт, повысить его в ранге посредством посторонних добавок. Мне кажется, здесь надо искать главное объяснение того, почему в этих стихах так много культурного, искусствоведческого, я бы сказала, антуража. Культурные сокровища теперь стали заместителями ценностей абсолютных; культура становится божеством, и думают, что приравнять какой-нибудь сегодняшний обиходный предмет к музейному изделию – значит наделить этот предмет смыслом несопоставимо более высоким, чем его ближайшее назначение и функция. Это современная форма освящения взамен прежних. Но смыслонаделение и освящение здесь, конечно, мнимые.
Достаточно перелистать книжку одного только Алексея Пурина, чтобы наткнуться на “критскую бронзу” загорающих тел, на “картину Ван Дейка в Дрездене” в связи с армейским дежурством, графику Чехонина – при виде деревьев в инее, Спарту – в соседстве со спорт-городком, Пергамский алтарь – в бане, где сгрудившиеся тела образуют подобие фриза. Потребность в сублимации, “возгонке” впечатлений удовлетворяется из случайного запасника…»
Мне кажется, подоспела пора двойного возвратного движения. От «взорванного» предметного мира («образ входит в образ» и «предмет сечет предмет») в сторону Иннокентия Анненского; снова к вещи, предлежащей поэтическому взору и чувству, обогретой и обжитой человеком, но и таящей загадку собственного, неразложимого до конца бытия. Да и движения в сторону Блока, – чтобы за откровенной прозаичностью какого-нибудь до замызганности узнаваемого натюрморта не утрачивалась ощутимость второго, высшего плана существования.
Пушкинская традиция в русской поэзии второй половины XIX века 1. Пушкин как герой русской литературы. Стихи о Пушкине его современников: Дельвига, Кюхельбекера, Языкова, Глинки. Пушкин – «идеальный» русский поэт в представлении поэтов-последователей: Майкова, Плещеева,
Из книги Теория литературы автора Хализев Валентин ЕвгеньевичО дивные вещи века Томас Диш. Славный маленький тостер. Альманах «SOS»Когда-то давным-давно братья Стругацкие опубликовали любопытную научно-фантастическую повесть «Благоустроенная планета» (позднее она стала составной частью не самого удачного романа Стругацких
Из книги История русской литературы XIX века. Часть 1. 1795-1830 годы автора Скибин Сергей Михайлович2 Художественный образ. Образ и знак Обращаясь к способам (средствам), с помощью которых литература и другие виды искусства, обладающие изобразительностью, осуществляют свою миссию, философы и ученые издавна пользуются термином «образ» (др. - гр. эйдос - облик, вид). В
Из книги Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений автора Глинка Глеб Александрович Из книги Творец, субъект, женщина [Стратегии женского письма в русском символизме] автора Эконен Кирсти Из книги Чужая весна автора Булич Вера СергеевнаЛирический субъект в пространстве (сад, небо, дом, лес) Целостный, фемининный, декадентско-модернистский и солипсический лирический субъект сонетов Вилькиной локализуется в пространствах, имеющих дополнительные эстетико-философские коннотации. Постоянно повторяющиеся
Из книги На рубеже двух столетий [Сборник в честь 60-летия А. В. Лаврова] автора Багно Всеволод ЕвгеньевичЛирический субъект во времени В данном разделе я рассматриваю конструкцию женской творческой субъектности в сонетах «Моего сада» Л. Вилькиной как одно из звеньев во временной цепи истории женского письма. Вилькина создает генеалогию женского письма с аллюзиями на
Из книги «Валгаллы белое вино…» [Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама] автора Киршбаум ГенрихВещи Шероховаты, жестки и строптивы - И ни одна из тех вещей домашних Ручной не станет, вечная вражда! Весь день проходит в спешке суетливой, Уж луч заката нежится на башнях, Вот между крыш колышется звезда - Не сломлено вещей сопротивленье. Еще они украдкой строят
Из книги Синтез целого [На пути к новой поэтике] автора Фатеева Наталья Александровна«Думы» как сверхстиховое единство в русской поэзии XIX - начала XX века В статье пойдет речь о разделах или циклах, озаглавленных «Думы», в собраниях стихотворений или книгах стихов некоторых русских поэтов конца XIX - начала XX века. Целью нашей статьи является попытка
Из книги И время и место [Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата] автора Коллектив авторов2.2.5. Переоценка образа Лютера в концепции обмирщения поэзии («Заметки о поэзии»/«Вульгата») Размышления Мандельштама о судьбах русской литературы продолжаются в «Заметках о поэзии», главные герои которых - Пастернак и Хлебников: «Когда я читаю „Сестру мою - жизнь“
Из книги Перекличка Камен [Филологические этюды] автора Ранчин Андрей Михайлович3.6. Слово «удовольствие» и удовольствие от слова (На материале поэзии XX века) Как ни странно, слово «удовольствие» в своем буквальном значении ‘чувство радости от приятных ощущений, переживаний, мыслей’ [Толковый словарь 2007: 1020] в русской поэзии встречается достаточно
Из книги Арабские поэты и народная поэзия автора Фролова Ольга Борисовна3.8. Комментарий лингвиста к статьям «Словаря языка русской поэзии XX века» Моему учителю В. П. Григорьеву посвящается При работе со «Словарем языка русской поэзии XX века», идея создания которого принадлежит В. П. Григорьеву, для исследователя и для составителя статей
Из книги автора Из книги автора«В области адской»: выражение из стихотворения И.А. Бродского «На смерть Жукова» в контексте русской поэзии XVIII – первой трети XIX века В 1974 году И.А. Бродский написал стихотворение «На смерть Жукова» – своеобразное подражание «Снигирю» – державинской эпитафии А.В.
Из книги автораЛирический герой и его атрибуты в печали и радости Названия лирического героя можно разделить на ряд подгрупп:1) большинство названий лирического героя образованы от глаголов со значением «любить» или заключают в себе дополнительное значение «страдание, мука,