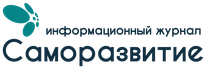Имя Николая Гумилёва к моменту возвращения его, на второй год перестройки, в литературу (1986) было под запретом более шестидесяти лет. В ряду так называемых «возвращенных имен» оно возникло одним из последних, много позже, например, М. Цветаевой или О. Мандельштама, а до них С. Есенина и А. Блока, а также некоторых других.
Причиной столь длительной казни молчанием было обвинение в участии в контрреволюционном заговоре, за что 24 августа 1921 г. он был расстрелян. В настоящее время считается несостоятельной не только версия об участии Н. Гумилёва в упомянутом заговоре, но взято под сомнение и само существование заговорщической организации.
Исключительно продолжительный и неукоснительно строгий, ни разу не смягчавшийся запрет, лежавший на имени Н. Гумилёва в течение нескольких десятилетий, привел к тому, что ни о каком изучении его творчества, разумеется, не могло быть и речи. Даже в тех немногочисленных работах по истории поэзии, где по необходимости приходилось говорить о группе акмеистов, создателем и руководителем которой, как известно, был Н. Гумилёв, его имя тем не менее тщательно и не без выдумки обходилось — вместо него обычно употреблялись эвфемизмы типа «автор „Колчана“» или «в высказываниях автора „Чужого неба“» и т. п.
Правда, как и во многих других подобных или схожих случаях, писатель, слишком, к сожалению, известный в свое время, оставивший заметный след в истории литературы или даже создавший направление (в данном случае акмеизм), оказавший несомненное воздействие на последующее поэтическое развитие, — такой писатель все же не мог при всех наложенных на него запретах исчезнуть из литературной памяти без следа и звука.
Всегда оставалось немало людей, которые с ним дружили, занимались (если говорить уже непосредственно о Гумилёве) в его Студии, входили в Цех поэтов, печатались в «Аполлоне» или «Гиперборее», а нередко и были свидетелями всей его короткой жизни, прошедшей у них на глазах; такие люди тщательно хранили память о расстрелянном мэтре или друге, хорошем знакомом или просто адресате; то были люди, как правило, хорошо знавшие историю культуры, в которой случаи, подобные гумилёвскому, к несчастью, повторялись с заметной закономерностью; в глубине своей благодарной и памятливой души эти люди продолжали надеяться на торжество справедливости. Правда, справедливость по отношению к Гумилёву отличалась крайней медлительностью; на этот раз общество, не в пример временам прежних деспотий, монархических или республиканских, каравших своих поэтов, казалось, только для того, чтобы затем их тотчас пылко помиловать, оказалось в своей свирепости совершенно неординарным. И те, кто знал и любил Гумилёва, помнил его голос и фигуру, манеру чтения или маленькие странности, кто помнил нигде не напечатанные стихи или выброшенные поэтом строфы, — они постепенно сходили в могилу. Но все же оставались и долгожители. Они не только, подобно М. Лозинскому, любовно берегли его книги и манускрипты, но не без риска, как например П. Лукницкий, создавали тщательно документированное жизнеописание («Труды и дни Николая Гумилёва»). Эта любовь, доходившая до страсти и даже постоянно как бы подстегиваемая самим запретом, передавалась также и изустно — молодым слушателям и поэтам. Такое занятие было еще более опасным, чем даже хранение манускриптов или тайная работа над хроникой гумилёвской жизни, поскольку тень «заговора» в пору всеобщей бдительности и распространенности доносов могла внезапно появиться и над подобным кружком увлеченных поэзией людей, собиравшихся у чайного стола, чтобы послушать стихи из старческих уст бывших гумилёвских студиек вроде Иды Наппельбаум, не избежавшей ссылки, или других, более счастливых, которых эта чаша благополучно миновала. Были также и коллекционеры — люди, как известно, фанатичные, ходившие по краю пропасти, как бы ее не замечая; некоторые из них (например, М. В.^1атманизов) ценою лишений собрали многое, относящееся к Н. Гумилёву, так что, когда, наконец, настала пора приступать к изданию его сочинений, вклад этих бескорыстных людей оказался совершенно бесценным.
А кроме того, все время что-то оставалось и витало в воздухе эпохи, словно стихи казненного поэта, рассредоточившись, как заряженные частицы, неожиданно высверкивали в виде то безымянной цитаты, то неожиданной реплики в устах какого-либо персонажа, как например в поэме Э. Багрицкого «Февраль», где боец с усталой горечью говорит: «Мне бы тоже сидеть в уюте, разговаривать о Гумилёве…». Д. Золотницкий, приведший в своей статье, посвященной драматургии Н. Гумилёва, подобные случаи, напомнил и о характерной сценке из второго акта «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского, где шел диалог Комиссара и Командира:
«Комиссар. Вы можете мне ответить прямо: как вы относитесь к нам, к советской власти?
Командир (сухо и невесело). Пока спокойно. (Пауза). А зачем, собственно, вы меня спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите.
Комиссар. Тех, кто „бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет“. Так?
Командир (задетый). Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилёва…».
«Звучал Гумилёв-поэт, — писал по этому поводу Д. Золотницкий, — полномочный представитель „нашей русской литературы“. И был таковым во всех, надо полагать, многочисленных сценических версиях „Оптимистической трагедии“. Разве что парадоксально виделась ситуация в целом: со сцены читали хрестоматийные стихи неиздаваемого поэта…».
Комиссар в пьесе Вс. Вишневского цитирует знаменитых «Капитанов» Н. Гумилёва. Этому стихотворению вообще очень повезло: строфа «Или бунт на борту обнаружив…» не раз приводилась без имени автора в самых различных статьях. Надо полагать, что Вс. Вишневский, взявший прототипом для своего Комиссара реальный образ Ларисы Рейснер, конечно, знал о близкой дружбе, существовавшей между Н. Гумилёвым и красным комиссаром Балтфлота Рейснер. Возможно, именно по этой причине и прозвучали в его трагедии не совсем обязательные в драматургическом тексте стихи Н. Гумилёва.
Подобные вырывания из-под запретов, происходившие и с другими запрещенными поэтами (вспомним хотя бы песенку Б. Корнилова «Нас утро встречает прохладой…»), бывали нечасто, но они свидетельствовали: час воскрешения истинных художников неизбежен.
Н. Тихонов, не имея, вероятно, в виду именно Н. Гумилёва, а подразумевая всех укрытых в архивы и спецхраны писателей, писал:
Настанет срок, откроются архивы,
И то, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы,
Откроет миру славу и позор.
Иных богов тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
Появление в печати очередного «возвращенного имени» в разные годы обставлялось по-разному, но всегда с теми или иными предосторожностями. Предполагалось, что, несмотря на возврат и реабилитацию, все же некий «порок» в возвращаемом имени оставался неустранимым и от него следовало уберечь читателя с помощью вступительных или заключающих статей, напоминающих некий контрольный турникет. М. Чудакова в своей статье «Взглянуть в лицо» (см. сб. «Взгляд». М., 1988) точно и остроумно охарактеризовала подобные пропускники, имевшие различные модификации в хрущевские, брежневские и иные времена. Особенный интерес с этой точки зрения представляет, конечно, пора «первой оттепели» (после XX съезда), но и позже подобные «очистные сооружения» продолжали существовать, сохранившись в более благопристойном виде до наших дней, чему могут быть примером литературоведы в штатском возле романа Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба» и его же повести «Все течет». Иногда в роли пропускающего выступало лицо, облаченное высокой должностью (например, А. Сурков — автор предисловия к одной из первых после ждановского погрома книг Ахматовой, или В. Карпов — автор второй (!) вступительной статьи к первому сборнику Н. Гумилёва). В тех же случаях, когда автор считался уже прочно возвращенным, а печаталось лишь какое-то его произведение, дотоле бывшее запрещенным, дело могло обойтись и без казенного сопровождения («Реквием» Ахматовой).
Уже то обстоятельство, что Гумилёв не смог появиться в пору «оттепели», свидетельствовало о строжайшей засекреченности его фигуры и безусловном отлучении от литературы.
А то обстоятельство, что он появился в печати совершенно неожиданно для читателей, да еще в апрельском номере «Огонька», посвященного традиционной ленинской дате и с портретом Ленина на обложке, говорило о серьезнейшем сдвиге в общественно-политической жизни страны.
Публикации стихов Н. Гумилёва в «Литературной России» (11 апреля 1986г., № 15(1211), с. 18) и в «Огоньке» (1986, № 17, с. 26- 28), а также вскоре и в «Литературной газете» (1986, 14 мая, № 20(5086), с. 7) сопровождались вступительными статьями, но — по преимуществу — информационного характера. Интересно, однако, что в краткой заметке поэта Б. Примерова, предпосланной публикации гумилёвских стихов («Волшебная скрипка», «Андрей Рублев», «Капитаны», «Самофракийская победа», «Ольга», «Старый конквистадор», «Любовь», «Поэт ленив, хоть лебединый…», «Персей»), сразу же возник мотив о подспудной известности Гумилёва и о притягательности его полутаинственной личности. «Впервые стихи Николая Гумилёва, — писал Б. Примеров в своей заметке, — я услышал из уст замечательного русского прозаика Виталия Александровича Закруткина. Это было давно — на заре моей юности. Автор „Кавказских записок“ и „Плавучей станицы“, участник Великой Отечественной войны, читал горячо, увлеченно, с какой-то особой любовью. В молодую крепкую память входили строки, как гвозди, с первого удара сильного, точного слова:
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
Это было, — пояснял дальше свое ощущение Б. Примеров, — человеческое самоутверждение. Потом уже несколько лет спустя из бесед с многими поэтами военного поколения я узнал, какое влияние Гумилёв имел на них — от Тихонова до Шубина, от Симонова до Недогонова..».
Непритязательная заметка Б. Примерова, не содержавшая в себе никаких сведений о Гумилёве, кроме того, что,"в русской поэзии есть и такой самобытный поэт, как Николай Степанович Гумилёв", интересна тем, что это было одно из первых открытых признаний Гумилёва. И хотя автор по необходимости делал вид, будто публикация стихов Гумилёва — дело почти обычное («Сегодня „Литературная газета“ публикует подборку его стихотворений в связи со 100-летием со дня рождения поэта»), так что наивный читатель мог подумать, что подобные подборки появлялись к каждому очередному юбилею Гумилёва, — все же это было событие, из ряда вон выходящее. Но поскольку Гумилёв был для большинства поэтом все же неизвестным, а для некоторой части и достаточно предосудительным (как-никак расстрелян советской властью), то газета вынуждена была обезопасить и себя, и Гумилёва ссылками на участника Великой Отечественной войны, замечательного русского прозаика Закруткина, в также упомянуть об интересе к нему поэтов — «от Тихонова до Шубина…».
То была еще одна разновидность тех предосторожностей, о которых уже говорилось.
Так или иначе, но дорога для публикаций была открыта. В печати появились не только подборки стихов Гумилёва, но и его проза и переписка. Началось углубленное научное исследование творчества этого достаточно сложного, интересного и фактически не изученного поэта.Важной вехой было издание его стихотворений и поэм в Большой серии «Библиотеки поэта», где оказался представленным по существу весь корпус поэзии Гумилёва, то есть почти все его книги: «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан», «Костер», «Фарфоровый павильон», «Шатер» и «Огненный столп», а также поэмы и часть пьес.
В издании «Библиотеки поэта» были учтены и публикации сочинений Н. Гумилёва за рубежом, в частности Собрание сочинений в четырех томах (Вашингтон, 1962-1968) и два однотомника, существенно дополнявшие Собрание сочинений (Н. С. Гумилёв. Неизданные стихи и письма. Париж, 1980; Гумилёв Николай. Неизданное и несобранное / Сост., ред. и комм. М. Баскер и Ш. Греем. Париж, 1986).
И все же, несмотря на большую работу, проделанную не только « Библиотекой поэта», но и другими издательствами, и несмотря на ряд статей, уточняющих творческий путь Гумилёва, освещающих его новыми фактами, предстоит сделать еще очень многое.
Прежде всего предстоит выработать, хотя бы в предварительном виде, но с максимальным приближением к истине, общую концепцию творчества Гумилёва; необходимо установить место его в истории русской поэзии XX века; следует определить пути воздействия Гумилёва на советскую поэзию; выяснить основные взаимодействия поэта с его современниками; проследить своеобразие его поэтического метода; исследовать его эстетические взгляды; осмыслить характер его драматургии и своеобразие прозы; изучить принципы его переводческой работы, а также многое-многое другое, в том числе и такие важнейшие моменты, как например характер, эволюцию и смысл ориентализма Гумилёва. Можно сказать, что, пожалуй, ни один из этих аспектов по-настоящему еще не освещен и не исследован.
Часть из перечисленных проблем так или иначе освещается в настоящем сборнике. Это — первое научное коллективное исследование творчества Гумилёва, включающее в себя как научные разработки, связанные с отдельными проблемами, так и конкретные материалы, которые могут стать объектом дальнейших исследований.
Немаловажное значение для осмысления творчества Гумилёва имеет выработка общего взгляда на эволюцию и характер его пути.
Известно, что довольно долгое время его развитие отличалось удивительной замедленностью и неоригинальностью. Отчасти по этой причине упомянутое издание его сочинений в «Библиотеке поэта» начинается с его второй книги («Романтические цветы»), так как первую книгу был готов забыть и сам автор. Конечно, подобные случаи, когда автор стремится забыть (сжечь, скупить) свои первые книги, в истории литературы не так уж редки — можно вспомнить Некрасова, Полонского и других, но «случай Гумилёва» все же выходит из этого ряда, так как его вторая книга — «Романтические цветы» была по строгому счету ничем не лучше первой, а третья — «Жемчуга», хотя и содержала в себе определенные достижения, все же превосходила первые две больше своим объемом. Первой — настоящей, гумилёвской, акмеистической — книгой было, как считал и сам Гумилёв, «Чужое небо».
Можно согласиться с соображением, высказанным по этому поводу Вяч. Вс. Ивановым, который пишет о замедленности развития Н. Гумилёва и о множестве очень слабых стихов в его ранних книгах. «Он удивительно поздно раскрывается как большой поэт. Это надо иметь в виду и теперь, когда с ним начинают заново знакомиться и знакомить. Не стоит это знакомство обставлять академически, в хронологическом порядке первых сборников, которые могут только от него оттолкнуть, во всяком случае едва ли привлекут людей, искушенных в достижениях новой русской поэзии…».
Это верно, и первые публикации стихов Н. Гумилёва (и в «Литературной России», и в «Огоньке» в 1986 г.), включавшие в себя явно слабые, подражательные и как бы даже не «гумилёвские» произведения, если иметь в виду их высокий облик, сложившийся на основе зрелых сочинений, наверно, многих и многих разочаровали.
Однако для серьезного научного изучения и так называемые слабые произведения представляют интерес и заслуживают самого пристального внимания, так как в них всегда можно увидеть, во-первых, задатки будущих достижений, а во-вторых, они дают возможность определить первоначальные воздействия и влияния — ведь на слабых произведениях, не преодолевших прямой подражательности, всегда легче заметить следы предшествующего или окружающего литературного фона, чем на вещах, полностью оригинальных и потому полностью растворивших в себе и этот фон и все, что с ним было связано.
Может быть, именно для изучения Н. Гумилёва его слабые стихи могут дать больше, чем для исследования какого-либо другого поэта из его талантливых (и сразу с очевидностью талантливых) современников. И действительно, разве не представляет несомненный интерес хотя бы то обстоятельство, что будущий реформатор поэзии, каким себя считал Н. Гумилёв, поставивший своей целью сменить (или, по определению В. Жирмунского, «преодолеть») символизм, свои первые книги написал под сильнейшим, до подражательства, воздействием символизма? Влияние символистской поэтики было так велико, что Н. Гумилёв даже в своих будущих акмеистических манифестах признавал символизм «достойным отцом». Сборник «Жемчуга» он посвятил В. Брюсову, под чьим внимательным наставничеством он, как известно, и начал свой творческий путь. Влияние на него А. Блока еще требует изучения, но исследователя не может не привлечь кажущийся на первый взгляд парадоксальным факт усиления блоковского воздействия в поздней лирике — в «Огненном столпе» и в окружающих его стихах, не говоря уже о почти выходящих наружу блоковских реминисценциях в сборнике «К синей звезде». Если учесть постоянное и, казалось бы, усилившееся к концу противостояние, существовавшее между Блоком и Гумилёвым, то подобные воздействия представляются чрезвычайно плодотворными для изучения самой этой проблемы, связанной с символизмом и акмеизмом.
Ранний Гумилёв, в особенности если иметь в виду его «долитературный» период, то есть гимназический рукописный сборник «Горы и ущелья», а также и первую книгу «Путь конквистадоров», испытал воздействие не только старших символистов, входивших тогда в свой зенит, но и опыт поэзии 70-х и 80-х годов, например С. Надсона, К. Фофанова, Н. Минского, а также целого ряда десятистепенных и ныне прочно забытых поэтов. Анализ сборника «Горы и ущелья» мог бы показать, что Н. Гумилёв-гимназист был не чужд и той ноты гражданственности, которая была свойственна, в частности, С. Надсону и Н. Минскому, поскольку именно в тот период (в Тифлисе) он прошел очень краткий период увлечения общественными интересами и даже… марксизмом. Кстати, этот период, когда будущий сторонник асоциального искусства читал К. Маркса и даже ходил в какой-то кружок, организованный тифлисскими пекарями, нам почти совершенно не известен, и его следовало бы, как, впрочем, и некоторые другие стороны биографии Н. Гумилёва, тщательно изучить. Возможно, вспышка интереса к социальности, быстро затем угасшая, но, надо думать, все же оставившая какой-то след в душе, была связана и с англо-бурской войной, развернувшейся именно тогда, когда гимназист тифлисской гимназии писал стихи в свой альбом, озаглавленный «Горы и ущелья». Борьба свободолюбивых буров вызывала тогда в России большие симпатии, песенка о мальчике, помогавшем отцу бороться с английскими колонизаторами, оставалась популярной спустя десятилетия после этих легендарных событий. Гимназисты мечтали убежать в Африку, чтобы принять участие в борьбе экзотической страны за свою независимость. Вполне возможно, что будущий певец Африки впервые почувствовал любовь к «черному континенту» именно в те ранние годы. Он был свидетелем красочных и патетичных проводов на бурскую войну одного из грузинских князей, отправившегося туда в качестве добровольца. Нет ничего удивительного, что в той атмосфере иные из гражданственных мотивов, звучавшие в стихах отдельных поэтов, хотя они и не имели отношения к бурской войне, все же западали в сознание юного стихотворца.
Однако, как уже сказано, социальные мотивы не проросли тогда в лирике Н. Гумилёва, отозвавшись через много лет лишь в некоторых африканских стихах («Абиссинские песни» и др.). Он полностью подпадает под воздействие символистов и вообще новейшей поэзии, особенно ее нарядного и экзотического крыла. Его кумиром на какое-то время становится К. Бальмонт. На книге К. Бальмонта «Будем как солнце» (М., 1903, изд-во «Скорпион»), подаренной Н. Гумилёвым одной из своих знакомых, сохранилась дарственная надпись: «…от искренне преданного друга, соперника Бальмонта, Н. Гумилёва», а также (на титульном листе той же книги) два стихотворения, исполненные восторженного отношения к Бальмонту. Что касается В. Брюсова, то вряд ли Н. Гумилёву даже в пору восторженно-экзальтированного преклонения приходила мысль стать «соперником» — в его глазах В. Брюсов был недосягаем, и молодой поэт именно его выбрал себе в учителя. Письма Н. Гумилёва В. Брюсову, частично опубликованные, свидетельствуют, что он очень внимательно относился к советам и замечаниям своего наставника и общепризнанного мэтра. Это почтительное отношение, по сути, не изменилось даже и тогда, когда В. Брюсов весьма скептически оценил перспективы акмеизма. В «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилёва тоже можно увидеть следы внимательной учебы у В. Брюсова, причем не столько, конечно, в конкретных оценках и даже не в истолковании характера поэтического процесса, его закономерностей и т. д. — во всем этом Н. Гумилёв был самостоятелен и оригинален, — а в чуткости отношения к искусству, в умении и желании разглядеть в произведениях, не отличавшихся зрелостью, тенденции и задатки будущего развития. По-видимому, он всю жизнь благодарно помнил неожиданно одобрительную оценку, какую дал В. Брюсов, строгий и нелицеприятный, его первой книге «Путь конквистадоров». Оценка была безусловно завышенной, но В. Брюсов в то же время был прав, поскольку он видел в молодом, неизвестном ему поэте то, чего тогда не видел никто и о чем не догадывался даже и сам дебютант. Рецензия, по сути, была строгой, в ней педантично перечислялись все недостатки этой очень слабой книжки, но она обнадеживала и направляла.
Поддержка старшего символиста, очень окрылившая Н. Гумилёва, свидетельствовала не только о прозорливом милосердии маститого поэта, но, конечно, и о том, что стихи юного Н. Гумилёва были, на его взгляд, в чем-то родственны символистскому творческому опыту, в том числе и опыту самого В. Брюсова. Романтическая патетика Н. Гумилёва, его стремление писать исторические сцены и этюды и даже высокопарное красноречие — все это в ослабленной и даже утрированной форме напоминало брюсовскую манеру. Словом, Н. Гумилёв начинал в русле символизма и действительно был многим ему обязан.
Акмеизм Н. Гумилёва и символизм (в широком смысле этого понятия) — обширная и неисследованная тема. Но предварительно можно все же сказать, что по крайней мере три важных момента имели большое значение для формирования и дальнейшего развития автора будущих великолепных книг — «Чужого неба», «Колчана», «Огненного столпа». Будучи первопроходцем и реформатором по своей художнической природе, Н. Гумилёв не мог не оценить и не воспринять самого духа творческой отваги, присущего старшим символистам, раскрепостившим стих и научившим поэтическое слово вплотную сблизиться с музыкой. При всем отличии акмеистической поэтики от символистской, например присущей Н. Гумилёву четкости поэтической речи и твердости рисунка, он всегда стремился выявить внутреннюю воздушно-мерцающую природу стиха. Его знаменитые сдвоенные пиррихии, пеонические сглатывания, придававшие подвижность и легкость ритму и живую естественность, чуть ли не разговорность строке и слову, — все это шло, конечно, от опыта символистов, культивировавших в своем творчестве музыкальность и гипноритмию, помогавшие их стиху скользить и парить и даже как бы растворяться в дрожащей ауре многочисленных созвучий.
В ранних книгах Н. Гумилёв был в этом отношении еще чисто подражателен и потому — в непосредственной, конкретной работе со стихом — почти груб и примитивен. Его стихи тех лет (особенно в «Пути конквистадора» и в «Романтических цветах», а также в меньшей степени в «Жемчугах») похожи на старательные и добросовестные гипсовые слепки с символистских образцов и моделей. В. Брюсов не мог не оценить столь терпеливой и самоотверженной учебы — вот почему он так похвалил эти опыты, возможно, понадеявшись, что в лице Н. Гумилёва появится достойная смена символизму, уже предчувствовавшему в пору первых гумилёвских книг нарождающийся кризис. Время, отпущенное на расцвет символизма, было уже сочтено — близились 1909 и 1910 гг., когда сокрушительный кризис, от которого символизм не оправился, разразился едва ли не по всему фронту этого течения. Известная парадоксальность, грозившая Н. Гумилёву неотвратимой катастрофой, заключалась в том, что по мере приближения символизма к пропасти, к концу, к исчерпанности вдруг, оказывается, нашелся старательный ученик, вознамерившийся поднять знамя, которое, правда, еще достаточно высоко держало старшее поколение, возможно, при этом надеясь на некое чудо спасения и реставрации. Увы, по мере приближения к роковой черте символизм в отдельных своих проявлениях начинал выглядеть уже смешно и трагикомично. Здесь достаточно вспомнить хотя бы фигуру Эллиса, продолжавшего сражаться даже тогда, когда символисты оставили поле боя. Но в 1905г. было еще относительно благополучно, менее спокойно было в пору появления второй книги («Романтические цветы»). Отзыв В. Брюсова о «Романтических цветах» не случайно выглядит еще более утвердительным — в своей положительной оценке и в прогнозах. Складывается даже впечатление, что мэтр ждал этой книги — он все еще надеялся на достойную смену: дело старших символистов не должно было угаснуть. «Конечно, — писал он, — несмотря на отдельные удачные пьесы, и „Романтические цветы“ — только ученическая книга. Но хочется верить, что Н. Гумилёв принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно и потому встающих высоко. Может быть, продолжая работать с той упорностью, как теперь, он сумеет пойти много дальше, чем мы то наметили, откроет в себе возможности, нами не подозреваемые».
Однако уже в «Романтических цветах» наметились особенности, предвещавшие иной путь развития — не символистский. Надо сказать, что и В. Брюсов, а также другие критики (например, В. Гофман) тотчас заметили их. Правда, В. Брюсов, полагаясь на свои надежды и будучи уверенным, что Н. Гумилёв является его старательным и верным учеником, попытался отнести их к числу не особенностей, уже органично и неукоснительно вызревавших в манере молодого автора, а к недостаткам, которые следует по его совету преодолеть. Так, В. Брюсов полагал, что Н. Гумилёву «часто недостает силы непосредственного внушения». Это было исключительно важное и верное наблюдение, так как даже в этой книге его ученик уже отказывался, причем «часто», от такого серьезного средства, каким были в искусных руках символистов гипнотически заряженное, обладавшее силой «волшебного внушения» поэтическое слово и завораживающая строка, бравшая душу и сознание читателя (или слушателя) в музыкальный плен. И вот от основополагающего принципа «Музыка прежде всего!» этот послушный ученик отказывался.
К числу «недостатков», от которых молодому Н. Гумилёву, если он действительно хотел оставаться верным учеником, В. Брюсов относил опять-таки верно подмеченное им стремление автора «Романтических цветов» к «объективности», когда «сам поэт исчезает за нарисованными им образами». Изъян этот, по наблюдению В. Брюсова, приводит к тому, что, когда надо «передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов», он тотчас проигрывает как художник.
На первый взгляд подобные замечания В. Брюсова, далеко не чуждого «объективной» лирике, например, в тех случаях, когда он рисовал исторические сцены и картины, кажутся странными. Ведь вполне возможно, что старательный ученик Н. Гумилёв в таких своих стихах, как «Воин Агамемнона», «Андрогин», «Варвары», «Царица», «Возвращение Одиссея», следовал именно В. Брюсову:
Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры.
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.
Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.
И ты вступила в крепость Агры.
Светла, как древняя Лилит,
Твои веселые онагры
Звенели золотом копыт…
(«Царица»)
Впрочем, можно даже сказать, что вся книга «Романтические цветы» явно «брюсовская», она в этом отношении намного подражательнее, чем «Путь конквистадоров», в ней Н. Гумилёв следовал многим поэтам, но по преимуществу третьестепенным. А между тем учитель оставался недоволен своим учеником именно там, где он, казалось бы, ему следовал в большей степени. Как ни странно, но Н. Гумилёв нарушал принципы символизма, приближаясь на минимальное расстояние к его основоположнику. Все дело в том, что ученик, каким себя продолжал чувствовать автор «Романтических цветов», начал развиваться органично, в его старательных гипсовых слепках, любовно воспроизводивших брюсовские образцы, стали проявляться черты, идущие от его собственной двинувшейся в рост личности. В. Брюсов сути этого движения тогда не почувствовал, он ощутил измену, но не понял, в чем именно она заключается, а между тем его замечания относительно «объективной» манеры, мешающей искусству «внушения», впрямую касались как раз «точек роста». Едва ли не инстинктивно он постарался эти точки своевременно удалить чуть ли не хирургическим путем — с помощью острого скальпеля своего анализа и могучего авторитета.
В «Романтических цветах» Н. Гумилёв, надо заметить, находился как поэт и художник в состоянии очень шаткого, неуверенного равновесия. Рядом со стихотворением «Царица», которое только что частично цитировалось, стояло в его сборнике стихотворение «Товарищ» — его поэтика, интонационный строй, образность подчинены столь желанной для В. Брюсова магии внушения:
Что-то проходит близко, верно,
Холод томящий в грудь проник.
Каждою ночью в тьме безмерной
Я вижу милый, странный лик…
Сладостной верю я надежде,
Лгать не умеют сердцу сны,
Скоро пройду с тобою, как прежде,
В полях неведомой страны.
(«Товарищ», 123, 124)
Казалось, что поэт мог развиваться и в ту и в другую сторону — все зависело от того, куда и как укажет Учитель. Так представлялось В. Брюсову. Возможно, и сам Н. Гумилёв постарался идти по пути, предложенному ему опытной и доброжелательной рукой.
Но было уже поздно: талант, с таким трудом прораставший в душе юного поэта, двинулся в рост самостоятельно. Теперь он сам повел Гумилёва за собой, оставив в его душе благодарность Учителю и … символизму. Недаром вскоре, уже будучи главою акмеизма, он скажет, что символизм был и остался «достойным отцом». В чертах лица гумилёвской лирики, включая и позднюю, можно разглядеть фамильное сходство. От него, впрочем, никогда не открещивались ни Гумилёв, ни Ахматова, ни Мандельштам: все они прекрасно понимали плодотворность пройденной ими предварительной школы.
Проблема «Гумилёв и символизм» или «символизм и акмеизм» — большая и сложная, она содержит в себе немало различных аспектов, требующих осмысления и исследования. Некоторые из них очевидны, другие — полускрыты или опосредованы. К числу явных, но недостаточно исследованных принадлежит, например, известное родство с символизмом по отношению к предшествующей культуре. Многозахватность культурных традиций, которая в высшей степени была свойственна и старшим и младшим символистам, их ориентация на западный общеевропейский (первоначально по преимуществу -французский) опыт, способность творчески переработать его, сделав органичным достоянием русской стиховой культуры, — все это было в неменьшей степени присуще и акмеистам. На вопрос, что такое акмеизм, О. Мандельштам однажды ответил, что это — жажда культуры. Манифестационные статьи акмеистов содержат целый ряд западноевропейских имен, относящихся к разным вехам, — от Данте и Рабле, от Петрарки и Вийона до недавних «проклятых» поэтов — Рембо и Верлена. По отношению к предшествующей культуре они были так агрессивны и так жадны, что их порою упрекали в неразборчивости. Но интуиция, трудолюбие, выработка утонченного вкуса, постоянная оглядка на высокую филологическую культуру вождей символизма — все это способствовало тому, что и в этой области они были достойными сыновьями символистов.
Их главное расхождение с символистами касалось в основном двух пунктов: они стремились видеть и показывать мир вещно и четко, без постоянных отсылок к миру запредельному и иному, как это водилось у символистов. Инобытие духа они признавали не в меньшей степени, что и их предшественники, но предпочитали иметь дело с земной данностью в ее телесной, цветущей или гниющей, плоти. Слово из эфира иносказаний обязано было, по их замыслу, обрести твердый и конкретный смысл, спуститься на землю, а в том случае, когда оно имело дело с облаками, то это должны были быть облака земные — с дождевой влагой, поящей землю, или сумраком тени, укрывающей ее от зноя.
Однако при всей внешней противоположности относительно слова, когда у одних оно пронизывалось и держалось многосмысленностью значений, истаивающих в тумане абстракций и символов, а у других держалось земли, плоти, конкретности и потому предпочитало твердую оболочку, и те и другие значительно и нередко новаторски расширяли словесный инструментарий. Акмеисты, разумеется, были в своем искусстве несравненно большими и принципиальными реалистами, а, кроме того, самый дух их творчества отличался своеобразной мужественностью — и не только у Гумилёва или Мандельштама, но и у Ахматовой. Поскольку они принимали мир таким, каков он есть в реальности, они и не могли не быть мужественными, уже сама их эстетическая позиция предполагала именно такое качество. Другое дело, что они предпочитали видеть действительность достаточно односторонне, отказываясь видеть и изображать «социальность», — здесь акмеисты опять-таки сходились с определенными аспектами символистского искусства, шедшего, впрочем, особенно после кризиса (у Блока и некоторых других), даже несколько впереди принципиальной аполитичности акмеистов.
Не вдаваясь подробно в эту проблематику, требующую тщательного и всестороннего изучения, следует сразу же отметить, что «аполитизм» и «асоциальность» акмеистов далеко не однозначны. Здесь существуют свои штампы и те окостеневшие традиционные мнения и суждения, которые требуют если и не пересмотра, то по крайней мере серьезных уточнений. Дело в том, что между декларациями, манифестационными высказываниями и художественной практикой, как известно, всегда существует определенный разрыв. Он существовал и у акмеистов. Немногочисленная эта группа вообще была очень неоднородной, что особенно бросается в глаза как раз ввиду ее немногочисленности. Те шесть человек, что образовывали группу, казалось бы, могли сравнительно легко установить между собою определенное единство, так что при неизбежной несхожести индивидуальных почерков группа отличалась бы задуманной ими же самими монолитностью. И они, действительно, очень стремились к этому, установив в «Цехе поэтов» довольно строгие правила: никто не должен был выходить за рамки, предписанные эстетической программой, все обязаны были читать и обсуждать свои произведения в кругу товарищей-единомышленников, никто не должен был публиковать произведения без разрешения группы и т. д., вплоть даже до мелких регламентации. Такой строгости, пожалуй, не было ни в одной из предшествующих или современных групп и направлений, в том числе и у футуристов, организовавшихся фактически одновременно с «Цехом поэтов», но доброжелательно принявших в свой состав художников, весьма далеких от буквы их программ, например Б. Лившица. Строгий, нарочито средневековый устав, введенный в «Цехе», не спас его, однако, от мощных центробежных сил, с которыми ни один из трех так называемых синдиков не смог справиться. Оказалось, что наиболее правоверным (и, может быть, именно по этой причине творчески неинтересным) был один С. Городецкий. Он блюл устав строго и неукоснительно, но его старания привели лишь к тому, что разногласия, которые могли бы быть не столь заметными, выступали рельефно. Правда, кроме С. Городецкого, никто особенно не печалился по этому поводу, так как все понимали, что художественная натура всегда сильнее и шире программных догм и схем. Первой жертвой С. Городецкого пал, как известно, глава и основатель школы — Н. Гумилёв, опубликовавший стихотворение о средневековом итальянском художнике Фра Беато Анджелико, в котором, по справедливому мнению С. Городецкого, был нарушен важнейший принцип адамизма — мужественно-мажорное приятие жизни. Стихотворение Н. Гумилёва, окутанное дымкой недопустимой меланхолии и грусти, а также столь же недопустимой мыслью о быстротечности жизни перед лицом вечности, казалось второму синдику едва ли не предательством цеховых интересов. Правда, если бы С. Городецкий осмотрелся вокруг себя внимательнее, он мог бы заметить сходные мотивы у Ахматовой, в лирике которой трагизм жизни уже давал себя чувствовать, при всей внешней акмеистической изобразительности ее стихов; он мог бы заметить сходные черты и у Мандельштама, подготавливавшие «Tristia», но явные уже и в «Камне»; более того, они видны и у М. Зенкевича, у Н. Оцупа, у М. Лозинского… Их не было лишь у одного С. Городецкого, на долгие годы остановившегося на одной точке. Интересно, что, будучи в пору первого «Цеха поэтов» самым правоверным, готовым карать и отлучать, второй синдик в 20-е годы отрекся от «Цеха» и от его программы.
Предвоенная эпоха, стоявшая накануне империалистической войны и двух революций, не могла не давать о себе знать, несмотря ни на какие звуконепроницаемые программы. Поэзия настоящих художников не могла не передавать глухих ударов эпохи.
Нельзя, кроме того, не учитывать, что в «Цехе поэтов» с его «суровым» монастырским уставом и проверками на «правоверность», с его «синдиками», «подмастерьями» и прочими элементами ритуала было немало от игры, от лицедейства и спрятанной под серьезность буффонады. «Цех поэтов» по времени совпал с созданием знаменитого артистического кабаре «Бродячая собака» с его открытой и принципиальной театрализованностью, иерархией посетителей, эксцентричностью и т. д. С заседаний «Цеха поэтов» синдики и подмастерья отправлялись в «Собаку», куда уже заполночь являлись и актеры из Александринки и Михайловского, а также других театров и театриков, нередко в театральных костюмах и гриме; из одной театральной среды они попадали в другую. Но сходное происходило и с акмеистами, которые со своих театрализованных заседаний приходили в подвал на Михайловскую.
Но театр — театром, а жизнь диктовала поэзии, совести и душе свою музыку и неожиданные мотивы, отмеченные неожиданной трагической огласовкой.
Зазор между «программой» и жизнью был особенно болезненным, когда он грозил превратиться в зазор между жизнью и искусством. Это трагически ощутили не только акмеисты Гумилёв и Ахматова, Мандельштам и Зенкевич, но и футуристы, особенно Маяковский, и символисты, главным образом Блок, уже начинавший прислушиваться к первым тактам революционной музыки, возникавшей из. нерасчлененного хаоса событий. Было бы крайне интересно проследить эту, несомненно, общую закономерность. В какой-то степени она представляется особенно значительной и яркой именно в творчестве и эволюции акмеистов, заявивших в своих программах о принципиальной асоциальности.
С этой точки зрения творчество Гумилёва может быть рассмотрено и осмыслено во многом по-новому, более глубоко, правдиво и, в известном смысле, более, так сказать, «типологично».
Сказанное не означает, что творческий путь Гумилёва нуждается в «выпрямлении» или тем более в подтягивании его к левому крылу искусства, к революции и т. д., но он, безусловно, нуждается в серьезной корректировке.
Его внутренний, духовный мир развивался по своим интимным законам, идя к жизни, к ее реальности и даже к ее социальности, но не прямым путем, а сложным, противоречивым и, главным образом, опосредованным, чаще всего на большой глубине, в глубоко личной и даже потаенной сфере творческого подсознания, работа которого не всегда была видна и самому поэту.
Одной из важнейших проблем, мимо которой не может пройти исследователь творчества Н. Гумилёва, является его ориенталистика. Изучение ее тем более важно, что убеждение в полнейшей асоциальности его поэзии, а также, разумеется, и мировоззрения, во многом основывается на разработке им восточных мотивов. Н. Гумилёва, как известно, неоднократно сравнивали с Р. Киплингом, присваивая ему титул русского киплингианца, певца российского колониализма и т. д. Эта точка зрения была в 20-е и последующие годы настолько устойчивой, что сделалась как бы аксиоматичной, а поскольку о Н. Гумилёве примерно с середины, но в особенности с конца 20-х годов упоминали все реже, она, эта точка зрения, осталась единственной. Никто не мог ее не только оспорить, так как это представляло серьезную опасность, но даже и развить, поскольку делалось нежелательным и простое упоминание этого имени. Считалось, кроме того, что участие поэта, певца империализма в контрреволюционном заговоре, являлось окончательным и все объясняющим аргументом, по поводу которого спорить собственно было не о чем.
В наши дни эта сторона творчества Н. Гумилёва, его ориенталистика подвергается пересмотру, но все же она еще не исследована ни достаточно широко, ни тем более достаточно глубоко.
Одним из первых наиболее обстоятельно рассмотрел эту проблему автор ряда работ по истории, культуре и литературе стран Южной и тропической Африки, а также по истории российско-африканских связей А. Давидсон. В обширной статье «Муза Дальних Странствий» (1988) и в одноименной монографии (1993) автор остановился не только на стихах Н. Гумилёва, но и на его прозе — сохранившихся листках из дневника, очерке «Африканская охота», опубликованном поэтом в 1916 г. в «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях» к журналу «Нива», рассказах из цикла «Тень от пальмы» и некоторых других. Он привел также необходимые факты об экспедициях в Африку, в которых участвовал Н. Гумилёв. А. Давидсон останавливается и на обвинениях, что не раз предъявлялись Н. Гумилёву, считавшемуся в глазах некоторых «романтическим колонизатором», и убедительно опровергает их.
Но что все-таки послужило первопричиной подобного истолкования ориенталистских мотивов в творчестве Н. Гумилёва, на чем они основываются?
Надо сказать, что Н. Гумилёв давал к тому определенные поводы. Люди, плохо знавшие Н. Гумилёва, не знакомые с его мировоззрением, не понимавшие его истинного отношения к «восточной теме», склонны были судить обо всем этом, основываясь на двух-трех чертах и особенностях, действительно выпукло, категорично и даже патетично вырисовывающихся в его «африканской» поэзии. Н. Гумилёв, как известно, был романтик, и то, что попадало в поле его жадного и цепкого зрения, многократно усиливалось как в цвете, так и в звучании. Он писал об Африке так страстно, так «взахлеб», с такой неистовой любовью и поглощенностью всем увиденным, с такой, одним словом, невероятной агрессивностью чувства, что весь этот шквал, обрушенный им на читателя, заставлял думать о нем, как о своеобразном, пусть литературном и поэтическом, завоевателе африканских пространств. Он действительно «захватывал» эти пространства и в своем патетичном слове, и в страстной интонации, и в стремлении «присвоить» себе эту страну — ее красоту, ее немыслимые богатства, ее ветер, зной, звуки, ее птиц и животных — всех этих «изысканных жирафов», крокодилов, львов, павлинов, носорогов и все-все, что жило, пело, трепетало, бегало и летало, плавало и ползало в этой изумительной, неправдоподобной по красоте, единственной на всем свете стране-сказке!.. С этой точки зрения (но только с этой) в литературе (не только в русской) еще не существовало до Гумилёва столь агрессивного по отношению к «черному континенту» поэта. Африка была для него без всякого преувеличения «отражением рая», а может быть, и самим раем, существовавшим, как это ни странно, не на небе, а на земле:
Садовод Всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.
А потом, улыбнувшись, как мальчик,
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых,
Удивительных птиц и животных.
Краски взяв у пустынных закатов,
Попугаям он перья раскрасил,
Дал слону он клыки, что белее
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза.
(«Судан», 291, 292)
Подобных восторженных стихов немало у Н. Гумилёва, а если говорить об интонации, что в них главенствует, то это интонация восторга и преклонения.
И все-таки странно, почему эту любовь, этот неистовый порыв, эту страсть и любование истолкователи осмыслили как колониализм, агрессивность и т. д.?
Конечно, в основе романтизма всегда лежит некая агрессивность, предполагающая два равно неутолимых желания, выражающихся в детских словах: «мое!» и «дай!». Они в высшей степени присущи Н. Гумилёву. И все же это обстоятельство не дает никакого объяснения тем обвинениям, что вдруг посыпались на влюбленного рыцаря Африки, дискредитируя его в глазах последующих поколений. Некоторое понимание этому странному обстоятельству дают, как представляется, особенности художественной манеры поэта, подмеченные еще В. Брюсовым, писавшим, что Н. Гумилёву свойственна «лирика объективная», где сам поэт исчезает за нарисованными им образами.
Но дело усугублялось тем, что поэт не только любил исчезнуть за нарисованными им образами, но пошел еще дальше — он создал маску, которую, правда, менял в зависимости от места действия и своих задач, но за которою действительно скрывал свое лицо. «Маска» тоже шла от романтизма, от романтического и театрального реквизита. В «Пути конквистадоров», да и в других ранних книгах, главенствует именно маска — маска неустрашимого конквистадора, завоевателя и покорителя, властного и жестокого:
Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь…
(«Сонет», 81)
Маска стала своеобразным художественным открытием Н. Гумилёва, помогавшим ему «входить неузнанным» всюду, куда влекла его романтическая мечта.
Когда же мечта обернулась явью, то есть привела его в ту сказочную страну, о которой он так пылко и литературно грезил, он эту маску не сбросил. Так, в маске конквистадора, и явился он читателям своих африканских стихов. Они, эти стихи, были пронизаны мужественностью, их ритм был упруг, интонация непреклонна, а голос из-под маски, звучавший с победной интонацией, заставлял предполагать в ее владельце человека надменного и высокомерного по отношению к окружающему. Мужество, чувство долга, риск — все это были черты человека воинственного, пришедшего в страну с определенной целью, а именно с той самой, какая двигала и отважными героями Киплинга, следовавшими долгу и бремени белых:
Завтра мы встретимся и узнаем,
Кому быть властителем этих мест;
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Весело думать: если мы одолеем -
Многих уже одолели мы, -
Снова дорога желтым змеем
Будет вести с холмов на холмы.
Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.
(«Африканская ночь», 233, 234)
Надо учитывать, что отношение к Африке у Гумилёва эволюционировало, и стихи, связанные, например, с его первой поездкой, заметно отличаются по внутреннему смыслу от произведений, написанных, когда он работал в археологической экспедиции, близко познакомился с черными рабочими, носильщиками, погонщиками, провожатыми. В первый период, когда он лишь первоначально знакомился со своей заветной и достаточно литературной страной, называемой заманчивым словом «Африка», он действительно смотрел на окружающее как турист, заезжий и любопытствующий путешественник в белом пробковом шлеме на голове и с английским стеком в руках. Напустив на себя «конквистадорство», достаточно невинное, потому что искусственное и олитературенное, он и в стихах пытался не изменить ни этой позы, ни взгляда немножко сверху вниз, как это он видел у высокомерных и знающих Африку англичан. Но, надо сказать, что маска конквистадора держалась на его стихах непрочно — он не мог не помнить проводов на англо-бурскую войну, виденных им в Тифлисе, когда ликующие толпы провожали князя Николая Багратиона-Мухранского, решившегося отправиться на поле сражения. Какой страстной и неизбывной завистью страдали тогда все гимназисты тифлисских гимназий, а в их числе и он тоже!.. Такие вещи и переживания не забываются. И если князя Николая всю жизнь потом называли «Буром», то и Гумилёв на всю жизнь запомнил и сцену проводов, и свое пылкое желание оказаться рядом с Багратионом-Мухранским. Вот почему «высокомерие» Гумилёва, приехавшего наконец в Африку, было не чем иным, как кратковременной литературной позой. В его душе просто не могло быть ничего похожего на «киплингианство», а тем более желания войти, условно говоря, в ряды колонизаторов-англичан, изменив, таким образом, храбрым и благородным «бурам». Насколько сильно было влияние англо-бурской войны на русское общество и на молодежь той поры, когда Гумилёв учился в гимназии, хорошо говорит в упомянутой работе А. Давидсон. Он пишет: «О впечатлении, которое произвела та война на детей и юношество, можно судить по множеству воспоминаний…». И дальше он приводит несколько таких колоритных свидетельств: «Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели флегматичных буров, дравшихся за независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли». Так вспоминал Паустовский. Маршак в детстве играл с мальчишками в войну буров и англичан. Эренбург «сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий», но его поймали и вернули. Ахматова поминала буров даже в поздних стихах.
Очень скоро Гумилёв после достаточно поверхностных зарисовок африканской действительности (лиц, фигур, одежды, пейзажа и т. п.) переходит к стихам, где сквозит совершенно иное, не равнодушное, а преисполненное симпатии отношение к подневольным рабам черного континента. В «Абиссинских песнях», составивших важнейшую часть «Чужого неба», он описывает нищую, тяжкую, беспросветную жизнь африканских туземцев. Более того, он оправдывает возможный бунт черных невольников против европейцев, пришедших на цветущую землю с «дальнобойными ружьями», «острыми саблями» и «хлещущими бичами»:
По утрам просыпаются птицы,
Выбегают в поле газели,
И выходит из шатра европеец,
Размахивая длинным бичом.
Он садится под тенью пальмы,
Обернув лицо зеленой вуалью,
Ставит рядом с собой бутылку виски
И хлещет ленящихся рабов.
Мы должны чистить его вещи,
Мы должны стеречь его мулов,
А вечером есть солонину,
Которая испортилась днем.
У него такие дальнобойные ружья,
У него такая острая сабля
И так больно хлещущий бич!
Слава нашему хозяину-европейцу!
Он храбр, но он недогадлив:
У него такое нежное тело,
Его сладко будет пронзить ножом!
(«Невольничья», 182-183)
«Абиссинские песни» и некоторые другие африканские стихи, если их читать непредвзято, убедительно сами по себе разрушают устойчивую и вредную легенду о «киплингианстве» и «колонизаторстве» Гумилёва. Именно в «африканских» стихах впервые и с большой выразительной силой проявилась в его творчестве социальная тема. Известно, что Гумилёв был противником проникновения в искусство социальных, особенно политических мотивов. Тем более следует отметить важную роль, какую сыграла в его творчестве Африка.
Итак, «маска» оказалась сдвинутой, приоткрылось лицо, отчетливее зазвучал голос, мужественный и сочувствующий, без каких-либо «конквистадорских» интонаций. Но можно ли сказать, что вместе с приоткрывшейся «маской» исчезла и «объективность», то есть то свойство Гумилёва-поэта, какое вроде бы совершенно неотрывно от его «маски»? Как мы помним, так называемую объективность, чаще всего смешиваемую с общественным индифферентизмом и асоциальностью, отмечали едва ли не все, в том числе и самый наблюдательный истолкователь и «куратор» поэта В. В. Брюсов, сказавший, что «объективность» мешала ему как лирику, но признававший, однако, что именно в таких вещах он оказывался наиболее силен.
Так называемая объективность Гумилёва является таким же камнем преткновения для многих о нем писавших и пишущих, как и знаменитое «киплингианство», обычно рассматривавшееся вкупе с его «колониализмом» и «шовинизмом».
В сборнике «Чужое небо», где Гумилёв опубликовал «Абиссинские песни» с их острым социальным мотивом, помещены им переводы из Т. Готье, считающиеся, и не без некоторых оснований, программными и даже манифестационными для акмеистов. В частности, это известное стихотворение французского романтика «Искусство», где есть строфа, многократно цитированная всеми писавшими о Гумилёве:
Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней -
Стих, мрамор иль металл…
(184)
Не вдаваясь в анализ этого стихотворения, надо все же отметить, что даже в творчестве самого Т. Готье оно далеко не тождественно формуле «чистого искусства». Что же касается Гумилёва, то он ценил это стихотворение не столько из-за проблемы социальности и ангажированности искусства, сколько за мысль о приоритете материала для работы художника, то есть он не столько защищает близкую ему идею незаинтересованности поэта в сумятице лагерей и партий, сколько думает о том, что Ахматова впоследствии назвала «тайнами ремесла».
Под «объективностью» Гумилёв подразумевал тот способ художественной работы, который наиболее соответствует «материалу». Нельзя камень обрабатывать кисточкою для китайской туши. И, как мы видели на примере «Абиссинских песен», «объективность» не помешала ему быть в этих произведениях, особенно в «Невольничьей песне», остросоциальным. В «Невольничьей песне» говорит не автор, о мести и возмездии мечтает невольник, но можно ли забывать, что вся картина, созданная именно поэтом Гумилёвым, а не кем-либо, с ее «объективностью» бесконечно далека от «равнодушия» и социальной пассивности, ее «объективность» лишь усиливает подготовленный и задуманный автором художественный эффект.
Впрочем, «африканская» тема, в которой завязались многие проблемы, касающиеся творчества Гумилёва, требует серьезного и многоаспектного исследования. Следует уточнить маршруты, связанные с его путешествиями, более точно определить круг лиц, с которыми он тогда соприкасался, использовать архивы Академии наук, отражающие работу археологической экспедиции, организованной академиком Радловым, изучить предметы культуры и быта, вывезенные поэтом и находящиеся сейчас в Институте этнографии, прояснить отношение Гумилёва к политической истории Эфиопии и многое другое. Но особенно важно органично и доказательно включить «африканские мотивы» в культурный контекст тогдашней эпохи, в которой ориенталистские мотивы и склонности были исключительно сильны и затронули многих и многих русских художников.
Гумилёв нашел на африканском континенте многое, что соответствовало внутренней природе его таланта, например яркую, декоративную зрелищность, экзотическую природу, то есть все то, чего он не находил у себя на родине и отчасти увидел лишь в детстве, в бытность свою на Кавказе. Можно сожалеть о том, что русская природа с ее медлительной плавностью очертаний и спокойной красотой не вдохновляла его музу, оставаясь в его душе неким залогом кровного родства, но дело обстояло именно так: его глазу нужен был резкий, контрастный, интенсивный цвет, а слуху — звуки тропических джунглей, он чувствовал себя полностью счастливым лишь тогда, когда, стоя на палубе корабля, видел очертания приближающихся африканских берегов. Эта исключительная по своей силе любовь помогла ему создать великолепные произведения, в которых то чувство, какое мы обычно называем словом «интернационализм», проявилось с огромной художественно-заразительной силой. В этом — большая заслуга Гумилёва.
На советскую поэзию именно эта сторона его творчества оказала особенно зримое и благотворное воздействие, продолжающееся и до сегодняшнего дня.
При изучении влияний, оказанных Гумилёвым на советскую поэзию, следует, конечно, иметь в виду, что тема Африки была у него лишь частью (правда, самой значительной) общей важнейшей темы интернационализма и гуманизма. Африка лишь в наибольшей, так сказать, концентрации воплотила в себе интернационалистские и гуманистические идеи и убеждения поэта.
В литературе о Н. Гумилёве, а также в тех работах, где так или иначе затрагивается проблематика, связанная с его творчеством, встречаются суждения, столь же ошибочные, сколь и «аксиоматичные» , то есть затвердевшие со временем ввиду отсутствия выверенных и научно объективных исследований о поэте. Как правило, эти ошибочные суждения возникли и упрочились спустя значительное время после гибели поэта.
К их числу (наряду с «киплингианством» и «колониализмом») относится и истолкование места и роли Гумилёва в поэзии периода первой мировой войны. О. Цехновицер в книге, посвященной литературе того времени, безоговорочно зачисляет поэта в лагерь убежденных апологетов войны, в ряды официозной литературы.
На самом деле все обстояло значительно сложнее уже хотя бы потому, что Гумилёв в годы войны проделал определенную эволюцию, что обычно никак не учитывается ни при анализе его позиции, ни при анализе его произведений, в особенности военного раздела книги «Колчан».
Разумеется, в стихах военных лет Гумилёв был далек от понимания социальной подоплеки империалистической бойни, развязанной капиталистическими государствами с целью раздела мира. Можно сказать, что по крайней мере до 1916 г. он готов был оправдать войну, хотя и видел неисчислимые страдания, которые она принесла народу. Он хорошо знал солдатский быт, видел и грязь и кровь, так как постоянно находился на передовой, отличаясь при этом большой личной храбростью. В одном из писем Ахматовой с фронта он писал, что не считает себя шовинистом. По-видимому, однако, тот угар, которым были охвачены многие верноподданные в первый период, коснулся все же и его.
Но мотивы печали, сквозящие в «Колчане», свидетельствуют об изменениях в его мироощущении, дающих о себе знать и в следующей книге — в «Костре». О лирике военных лет и об отношении Гумилёва к войне пишет в предлагаемом сборнике Ю. Зобнин. В этой проблеме следует обязательно учитывать по крайней мере три важных для понимания Гумилёва момента. Во-первых, он был человеком, патриотическое чувство которого с начала войны с Германией было обострено и даже воспламенено, как и у многих русских людей того времени, отправлявшихся добровольцами на фронт, совершавших героические подвиги, страдавших и погибавших во имя спасения родины. Официальная пропаганда — в этом отношении — падала на благодатную почву и находила, особенно в первые два годы войны, живой отклик. Антивоенные и антимилитаристские тенденции, бывшие основными в пропаганде большевиков и в передовой демократической литературе, группировавшейся вокруг Горького и в окружении Маяковского, оказывались достаточно слабым и в первый период войны малоэффективным противовесом. Гумилёв вступил в армию добровольцем и долгое время не был даже офицером. Его геройское поведение на фронте общеизвестно, и он по праву мог гордиться, что не посрамил оружия в борьбе с врагом. Кроме того, надо, во-вторых, учитывать и то немаловажное обстоятельство, что по своему характеру он был склонен к риску и даже к поискам тех отчаянных положений, когда жизнь находится на кромке гибели. Эту черту отмечали его товарищи по африканской экспедиции, бывшие свидетелями его охоты на диких зверей, мужественного поведения в джунглях, безоглядной отваги и т. д. Война — в этом смысле — удовлетворяла его постоянному стремлению к риску и драматическим ситуациям. Можно сказать, что, попав на фронт, он наконец-то почувствовал себя в атмосфере, воздухом которой ему было дышать свободно и легко. Судя по «Запискам кавалериста», даже те неизбежные тяготы войны, что обычно далеки от какой-либо романтики, воспринимались им сравнительно легко, как необходимый атрибут, неотъемлемый от риска и героизма. Примерно то же происходило с ним и в Африке, где в условиях археологической экспедиции, вечно страдавшей от нехватки рабочих рук, продовольствия и воды и всякой изнурительной черновой работы, он как бы не замечал этой стороны жизни.
В то же время быт войны, ее кровь и грязь, страдания солдатской массы, казнокрадство, то и дело подтверждавшиеся слухи о разложении в верхах, о предательстве генералитета — все это не проходило мимо Гумилёва, особенно в 1916 и 1917 гг. Он достаточно быстро начинает понимать бесчеловечный ужас всемирной бойни, втянувшей в себя людей, ни в чем не виновных друг перед другом, однако вынужденных убивать и мучить себе подобных. В стихотворении «Рабочий» он создал трагический образ войны, ставшей привычным бытом. Германский рабочий, добросовестно изготовив пулю, которая убьет незнакомого ему русского солдата, спокойно идет отдыхать, чтобы затем снова добросовестно и без угрызений совести приняться за свой смертоносный труд. Ни ненависти к германскому рабочему, ни патриотического воодушевления — ничего этого нет в стихотворении Гумилёва, преисполненном печали и скорби:
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.
И господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.
(260)
Не менее характерным и значительным было и другое стихотворение той поры — «Мужик»: о Распутине и распутинщине, но — одновременно и о таящихся в глубине нации могучих народных силах, темных и слепых лишь до времени. М. Цветаева, высоко оценившая стихотворение Гумилёва, писала, что в нем сказано «все о Распутине, царице, всей той туче. Что в этом стихотворении? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы».
Гумилёв действительно начинал слышать и стремился передавать «шаги судьбы» своего народа, пытался нащупать и определить какие-то невнятные еще ему самому повороты истории. То был его собственный шаг к осмыслению войны в совершенно ином ракурсе, чем тот, какой мы видим в произведениях первого периода войны. Позиция Гумилёва была также далека и от приписываемого ему по традиции «шовинистического угара», и от псевдопатриотического шапкозакидательства официальной литературы.
В стихотворении «Война» он пишет о «тружениках», идущих на «полях, омоченных в крови», и о тех, кто «гнется над сохою», — все это слова, необычные для поэзии Гумилёва. В «Колчане» и особенно в «Костре» у него, как бы в противовес казенному бездушному патриотизму, появляются стихи, исполненные сыновней любви к родине. Путешественник, мореплаватель, бродяга-романтик, всегда стремившийся уйти за горизонт и как можно дальше от привычных мест, он словно почувствовал вину за свое «равнодушие» к ее неэкзотичной красоте и будничному облику. Правда, этот мотив у него не развился — поэт оказался в Париже, в Лондоне, им вновь овладела страсть к «перемене мест», а возможность попасть на салоникский фронт, где уже «рукой подать» до Африки, и вовсе приглушила российскую тему. И все же есть основания и необходимость выявить, проследить и осмыслить тему России у Гумилёва, которая, как нам представляется, вовсе не была ему чуждой, поскольку в годы военных испытаний выплеснулась с большой выразительной силой. Кроме того, ее, конечно, следует рассматривать значительно шире, чем, скажем, пейзаж или какое-либо другое прямое проявление в образе, картине или чувстве, но и как определенную и прочную преемственность культуры, питавшую и сознание, и стих Гумилёва. В определении корней его поэзии обычно идут от сопоставлений с западноевропейской поэзией, к чему толкают и манифесты акмеистов, и симпатии Гумилёва к определенным именам, и переводческая деятельность поэта, раскрывающая его интересы в этой области, но нельзя забывать, что гумилёвская поэзия — явление русской культуры, возникшее в широком ареале отечественной словесности. К сожалению, в изучении этой стороны поэтической работы Гумилёва почти ничего не сделано. Миф о том, что поэзия Гумилёва — экзотический цветок, не имеющий корней в российской почве, при внимательном изучении не выдерживает проверки. В какой-то степени эта точка зрения, оказавшаяся чрезвычайно устойчивой и плотно сомкнувшаяся с не менее устойчивой версией о его «колониализме», обязана своей долговременности известному замечанию Блока о том, что в поэзии Гумилёва слышится что-то иностранное. Дополнительные исследования проблемы «Гумилёв и Блок» могут, по-видимому, внести какие-то коррективы и пояснения в эту сферу, где далеко не все очевидно и непросто хотя бы уже потому, что Блок не знал «поздних» стихов Гумилёва, составивших «Огненный столп», не говоря уже о тех, что потом вошли в его посмертный сборник. Знаменитая статья Блока «Без божества, без вдохновенья», написанная, как известно, в апреле 1921 г., когда им обоим оставалось жить около трех месяцев, выглядит сильно запоздавшей и не соответствующей поэтическому миру Гумилёва 1918-1921 гг.
Вообще этот период, последние два-три года его творчества исследованы крайне недостаточно, что представляется особенно странным и печальным, если учесть, что они являются временем безусловного и очень высокого взлета его таланта, отмечены серьезными и принципиальными, глубоко новаторскими поисками в философском и художественном познании действительности.
В эти годы расширяется круг людей, молодых советских поэтов, на которых он оказывает серьезное воздействие: Н. Тихонов, Вс. Рождественский и многие другие, пошедшие затем разными путями, но сохранившие в себе немало из того, что дал им Гумилёв. Предстоит осветить работу Гумилёва в Студии, где он занимался с молодыми поэтами, его участие в жизни Дома искусств и в Союзе поэтов, в издательстве «Всемирная литература».
Воздействие Гумилёва на советскую поэзию (в особенности в 20-е, но также и в последующие годы) было, по-видимому, более глубоким и сильным, чем принято думать, когда основываются лишь на тех или иных внешних приметах родства и близости.
Гумилёв был близок духу нового общества своим страстным интернационалистским пафосом. Его «поэтическая география», заразительная и красочная, сближавшая материки и народы, проникнутая идеями гуманизма и равенства, угадывается у крупных и разных советских поэтов — у Тихонова, Луговского, Сельвинского, Багрицкого, Корнилова, Павла Васильева, а через них — опосредованным путем — дошла и до поэтов военных лет и сегодняшних дней.
И наконец, надо исследовать еще одну, чрезвычайно важную, а для «позднего» Гумилёва даже определяющую сторону его неуклонно, до последних дней, раскрывавшегося дарования, а именно философскую. Будучи, безусловно, важнейшей, она, однако, никогда специально никем не рассматривалась. Между тем его лирика 1918-1921 гг., а также (и, может быть, в первую очередь) «Дракон» свидетельствуют об оригинальных и упорных поисках поэта в сфере проблем онтологических, бытийных. У него, как известно, был замысел написать своего рода историю мира, начиная с его сотворения. По этому плану, который должен был реализоваться в двенадцати книгах, он намеревался проследить постепенное формирование материи, возникновение сознания, чтобы затем перейти к собственно человеческой истории. Первая разведка в этом направлении была им начата в лирике, достигнув своеобразной кульминации в «Заблудившемся трамвае», где перемежение времен и свободное обращение с пространством впервые заставили говорить о том, что Гумилёв прикоснулся к серьезным философским проблемам. Но «Заблудившийся трамвай» был, по сути, лишь первой тропинкой в тот мир, что открылся в «Поэме начала» — этом монументальном Прологе к «Дракону» и ко всем двенадцати задуманным книгам. Внимательное чтение «Дракона» и всей «поздней» лирики показывает, что Гумилёв, в сущности, стоял у истоков советской философской поэзии, что он непосредственный предтеча всех тех поисков, что связываются в нашем представлении, например, с Заболоцким. Что именно в этом отношении Гумилёв предвосхитил и предугадал, может показать лишь специальный анализ. В настоящем сборнике, как у видит читатель, предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты философского мира поэта.
Хочется надеяться, что в своей совокупности работы, помещенные в сборнике, стимулируют дальнейшие исследования творчества Гумилёва.
Примечания:
Золотницкий Д. Театр Гумилёва: сжатый срок // Театральный Ленинград. 1988. № 28. С. 63.
Тихонов Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1981. С. 452.
Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка: Поэтический мир Н. С. Гумилёва // Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. М., 1988. С. 337.
Весы. 1908.№3. С. 78.
Там же. С. 78, 77.
Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель (Б-ка поэта. Большая сер.), 1988. С. 122. (В дальнейшем ссылки на произведения Н. Гумилёва, кроме особо оговоренных, даются в тексте по этому изданию).
Весы. 1908. №3. С. 78. 20
Африка. Литературный альманах. М., 1988. Вып. 9. С. 710.
Цветаева М. История одного посвящения // Oxford Slavonic Papers. 1964. Vol. 11. P. 122.
Творчество выдающегося поэта начала XX в. Николая Степановича Гумилева (1886-1921) — пример преодоления эстетической доктрины акмеизма.
Н.С.Гумилев родился в Кронштадте в семье морского врача 3 (15) апреля 1886 г. Детство будущего поэта прошло в Царском Селе, где он учился в царскосельской гимназии, директором которой был И.Ф.Анненский. В конце 1903 г. познакомился с гимназисткой Аней Горенко (будущей Анной Ахматовой). В 1905 г. в Петербурге опубликовал первый сборник стихов «Путь конквистадоров». Провел около трех лет в Париже, где издавал журнал «Сириус» и опубликовал сборник стихов «Романтические цветы» (1908).
По возвращении в Россию Гумилев поступил в Петербургский университет, активно сотрудничал в газетно-журнальной периодике, основал «Академию стиха» для молодых поэтов. В 1909-1913 гг. совершил три путешествия в Африку. В 1910 г. он женился на А. А.Горенко (разрыв с ней произошел в 1913 г., официальный развод — в 1918 г.). На 1911-1912 гг. пришелся период организационного сплочения и творческого расцвета акмеизма. Гумилев издал в это время свой самый «акмеистический» сборник стихов — «Чужое небо» (1912). С началом первой мировой войны поэт поступил добровольцем в уланский полк, за участие в боевых действиях был награжден двумя Георгиевскими крестами.
В 1916 г. вышел в свет новый сборник стихов «Колчан». Гумилев в это время находился за границей в составе экспедиционного корпуса. Там он встретил события 1917 г. и возвратился в Петербург лишь в 1918 г. В последние три года жизни активно занимался творческой, организаторской и преподавательской работой, издал сборники стихотворений «Костер», «Фарфоровый павильон», «Шатер», «Огненный столп».
3 августа 1921 г. Гумилев был арестован по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре, а 25 августа 1921 г. — расстрелян.
Гумилев начал свой путь в литературе в период расцвета символистской поэзии. Не удивительно, что в его ранней лирике весьма ощутима зависимость от символизма. Интересно, что будущий акмеист следовал в своем творчестве не за хронологически ближайшим себе поколением младосимволистов, но ориентировался на поэтическую практику старших символистов, прежде всего К.Д.Бальмонта и В.Я.Брюсова. От первого в ранних стихах Гумилева — декоративность пейзажей и общая тяга к броским внешним эффектам, со вторым начинающего поэта сближала апология сильной личности, опора на твердые качества характера.
Однако даже на фоне брюсовской лирической героики позиция раннего Гумилева отличалась особой энергией. Для его лирического героя нет пропасти между действительностью и мечтой: Гумилев утверждает приоритет дерзких грез, вольной фантазии. Его ранняя лирика лишена трагических нот, столь свойственных поэзии Анненского, Блока, Андрея Белого. Более того, Гумилеву присуща сдержанность в проявлении любых эмоций: сугубо личный, исповедальный тон он оценивал в это время как неврастению. Лирическое переживание в его поэтическом мире непременно объективируется, настроение передается зрительными образами, упорядоченными в стройную «живописную» композицию.
Символисты исходили из идеи слитности разных сторон и граней жизни, принцип сплошных соответствий подразумевал малоценность единичного, отдельного. По отношению к конкретным проявлениям реальности как бы намеренно культивировалась оптическая дальнозоркость: окружающее лирического героя «земное» пространство становилось бегло прорисованным, намеренно размытым фоном, на который проецировались «космические» интуиции. Гумилев и поэты его поколения гораздо больше доверяли чувственному восприятию, прежде всего зрительному. Эволюция раннего Гумилева — постепенное закрепление именно этого стилевого качества: использование визуальных свойств образа, реабилитация единичной вещи, важной не только в качестве знака душевных движений или метафизических прозрений, но и (а порой и в первую очередь) в качестве красочного компонента общей декорации.
В начале 1910-х гг. Гумилев стал основателем нового литературного течения — акмеизма. Принципы акмеизма во многом были результатом теоретического осмысления Гумилевым собственной поэтической практики. Ключевыми в акмеизме оказались категории автономии, равновесия, конкретности. «Место действия» лирических произведений акмеистов — земная жизнь, источник событийности — деятельность самого человека. Лирический герой акмеистического периода творчества Гумилева — не пассивный созерцатель жизненных мистерий, но устроитель и открыватель земной красоты. Поэт верит в созидательную силу слова, и котором ценит не летучесть, а постоянство семантических качеств. И стихотворениях сборника «Чужое небо» (вершина гумилевской акмеистической поэтики) — умеренность экспрессии, словесная дисциплина, равновесие чувства и образа, содержания и формы.
От пышной риторики и декоративной цветистости первых сборников Гумилев постепенно переходит к эпиграмматической строгости и четкости, к сбалансированности лиризма и эпической описательности. «Его стихи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием; он редко говорит о переживаниях интимных и личных; ... избегает лирики любви и лирики природы, слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления, — писал в 1916 г. В.М.Жирмунский. — Для выражения своего настроения он создает объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический — балладную форму. Искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечет Гумилева к изображению экзотических стран, где в красочных и пестрых видениях находит зрительное, объективное воплощение его греза. Муза Гумилева — это «муза дальних странствий»...
Поэтика поздней лирики Гумилева характеризуется отходом от формальных принципов акмеизма и нарастанием интимно-исповедального лиризма. Его стихи наполняются чувством тревоги, эсхатологическими видениями, ощущениями экзистенциального трагизма. Пафос «покорения» и оптимистических дерзаний сменяется позицией трагического стоицизма, мужественного неприятия. Чувственно воспринимаемые образы в его стихотворениях преображаются смелыми метафорами, неожиданными сравнениями. Часто стихотворная композиция строится на развертывании ключевой метафоры, которая к финалу перерастает в символ. Поэт не довольствуется теперь красочной предметностью описаний, прозревает жизнь гораздо глубже ее наружных примет. Поздняя лирика Гумилева по своему тону и глубинному содержанию значительно ближе символизму, чем акмеизму.
Среди других поэтов «серебряного века» Гумилев выделяется значительностью свершившейся в его лирике эволюции. Не случайно многие мемуаристы, оставившие воспоминания о нем, и большинство критиков и исследователей поэзии Гумилева писали прежде всего о заметном качественном росте его творчества, о тематической и стилевой трансформации поэзии. Параллельно с расширением тематического содержания лирика Гумилева последовательно углублялась, а рост формального мастерства поэта был лишь внешним выражением духовного роста его лирического героя. Между стихотворениями первых трех сборников Гумилева и шедеврами его последней поэтической книги — не только преемственность (она, конечно, ощутима), но и контраст. Порой этот контраст даже абсолютизируется, интерпретируется как разрыв или неожиданная метаморфоза. Так, по мнению Вяч.Вс.Иванова, поэтическая судьба Гумилева «напоминает взрыв звезды, перед своим уничтожением внезапно ярко вспыхнувшей... ...«Огненный столп» и непосредственно примыкающие... к этому сборнику стихи неизмеримо выше всего предшествующего».
Сопоставим первое стихотворение цикла «Капитаны», опубликованное в первом номере журнала «Аполлон» в 1909 г., и «Канцону вторую», вошедшую в последний сборник Гумилева «Огненный столп».
Стихотворение «Капитаны» стало для читателей 1910-х гг. своего рода визитной карточкой поэта. На первом плане в нем — созданный воображением поэта образ капитанов, живописная проекция представлений поэта об идеале современного человека. Этот человек, близкий лирическому герою раннего Гумилева, обретает себя в романтике странствий. Его влечет линия отступающего горизонта и призывное мерцание далекой звезды — прочь от домашнего уюта и будней цивилизации. Мир открывается ему, будто первому человеку, в своей первозданной свежести, обещая череду приключений, радость открытий и пьянящий вкус побед.
Герой Гумилева охвачен жаждой географической новизны, для него «как будто не все пересчитаны звезды». Он пришел в этот мир не мечтательным созерцателем, но волевым участником творящейся на его глазах жизни. Потому действительность кажется ему сменяющими друг друга моментами преследования, борьбы, преодоления. Характерно, что центральные четвертая и пятая строфы стихотворения представляют обобщенного «капитана» в момент противоборства — сначала с разъяренной морской стихией («трепещущий мостик», «клочья пены»), а потом с матросской командой («бунт на борту»).
Автор так захвачен поэтизацией волевого импульса, что не замечает, как грамматическое множественное число («ведут капитаны») в пределах одного сложного предложения меняется на единственное число («кто... отмечает... вспоминает... или... рвет»). В этой синтаксической несогласованности проявляется присущее раннему Гумилеву колебание между «общим» и «крупным» планами изображения. С одной стороны, общий «морской» фон стихотворения создается размашистыми условно-романтическими контрастами («полярные — южные», «базальтовые — жемчужные», «мальстремы — мель»). С другой — крупным планом подаются «изысканные» предметные подробности («клочья пены с высоких ботфорт», «золото... с розоватых брабантских манжет»).
Хотя стихотворение было написано Гумилевым еще за два года до организационного оформления акмеизма, в нем уже заметны тенденции акмеистической стилевой реформы. Это прежде всего установка на пробуждение у читателя пластических, а не музыкальных (как у символистов) представлений. В противоположность символизму, проникнутому «духом музыки», акмеизм будет ориентироваться на перекличку с пространственными искусствами — живописью, архитектурой, скульптурой.
«Капитаны» построены как поэтическое описание живописного полотна. Морской фон прописан на нем при помощи стандартных приемов художественноймаринистики(«скалы», «ураганы», «клочья пены», «гребни волн»). В центре живописной композиции — вознесенный над стихией и толпой статистов-матросов сильный человек, будто сошедший со страниц прозы Р.Киплинга (Гумилев увлекался творчеством этого английского писателя). Однако во внешнем облике этого человека больше аксессуаров театральности, нарочитого дендизма, чем конкретных примет рискованной профессии. В нем — никакого намека на тяготы корабельного быта, даже метонимия «соль моря», попадая в один ряд с модной «тростью», эффектными «высокими ботфортами» и декоративными «кружевами», воспринимается как живописное украшение. Декоративным целям служат в стихотворении и лексическая экзотика («мальстремы», «фелуки»), и акустические эффекты. В звуковом составе стиха ощутимы попеременно накатывающиеся волны аллитераций на «з» («изгибы зеленых зыбей»), «р» («на разорванной карте... дерзостный»), «б» («бунт на борту обнаружив»).
Одним из принципиальных тезисов акмеистических манифестов станет тезис о доверии к трехмерному миру, о художественном освоении многообразного и яркого земного мира. Действительно, на фоне символистской образности ранние стихотворения Гумилева выглядят намного более конкретными и сочными. Они выстроены по законам риторической ясности и композиционного равновесия (ясность и равновесие — еще один из важных стилевых принципов акмеизма). Однако большая степень предметности, которая заметна в «Капитанах», сама по себе не гарантировала приближения поэта к социально-исторической реальности и тем более — содержательного углубления лирики.
Менялся лишь тип лиризма: на смену интимно-исповедально-му лиризму приходила манера опосредованного выражения, когда поэт избегал открытой рефлексии, как бы «переводя» свое настроение на язык зримых, графически четких образов. Сами же эти образы чаще ассоциировались с образами других видов искусства (театра, живописи) и наследием прежних литературных эпох, чем с исторической реальностью предреволюционного десятилетия в России.
Ранний Гумилев отчетливо стремится к формальному совершенству стиха, он сторонится трудноуловимого, летучего, сложновыразимого — всего того, чему, по словам его бывшего учителя Анненского, «в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет». Такое самоограничение поначалу сыграло свою положительную роль: он миновал участь стихотворцев-эпигонов символистской поэзии, сумел найти свою тему и постепенно выработать свой собственный стиль.
Однако его позднее творчество обнаруживает «тайное родство» с наследием символистской эпохи — тем более замечательное, что «преодоление символизма» поначалу как будто придавало главный смысл его поэтической работе.
Стихотворение «Канцона вторая» из сборника «Огненный столп» выдержано в совсем иной тональности, чем «Капитаны». Вместо романтического жизнеутверждения — интонация скорбных разуверений, вместо яркой экзотики — приметы «проклятого захолустья ». Если ранний Гумилев чуждался индивидуальных признаний и слишком личного тона, то в сборнике «Огненный столп» именно жизнь души и тревоги сознания составляют содержательное ядро стихотворений.
Слово «канцона» (в переводе с итальянского — «песня») в заголовке использовано не в стиховедческом, а в самом общем значении: обозначено лирическое, исповедальное качество стихотворения. Сам характер заголовков у позднего Гумилева значительно разнообразней, чем прежде: помимо географической или зоологической экзотики («Гиена», «Ягуар», «Жираф», «Озеро Чад» и т. п.) и называния героев стихотворений («Дон-Жуан», «Капитаны» и т. п.) все чаще используются прямые или метафорические обозначения чувств, эмоциональных состояний, высших ценностей («Память», «Слово», «Душа и тело», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Звездный ужас»).
Такая эволюция названий отражает изменения в самом тематическом репертуаре поздней лирики. Главный мотив «Канцоны» — ощущение двоемирия, интуиция о жизни иной, исполненной смысла и красоты, в отличие от «посюстороннего» мира — мира «гниющего водоема» и пыльных дорог. Центральная оппозиция стихотворения задана парой местоименных наречий «здесь — там». Организующее начало «здешнего» теневого мира — грубая власть времени. Развертывая метафору «плена времени», поэт использует вереницу олицетворений: лето механически листает «страницы дней», маятник оказывается палачом «заговорщиц-секунд», придорожные кусты одержимы жаждой смерти. Здесь на всем — печать повторяемости, безжизненности, томительной безысходности. Даже в слове «пыльна» благодаря фонетическому сходству с глаголом «полонил» возникают неожиданные семантические отзвуки: пыль соотносится с пленом.
Самый экспрессивный образ «теневой» жизни создается неожиданной «материализацией» категории времени во второй строфе. В качестве составных частей единого образа использованы семантически и стилистически разнородные элементы: физиологически конкретные «головы» принадлежат абстрактным «секундам», движение маятника проливает кровь. Метафора будто стремится «забыть» о том, что она метафора, и обрасти неметафорической плотью.
Такие сочетания логически не сочетаемых предметов и признаков — характерная черта сюрреалистического стиля. Сюрреалистический стиль использует зрелищно яркие, но необъяснимые, алогичные сочетания образов, сталкивает обыденное и чудесное. Как самостоятельное литературное течение сюрреализм существовал в 1920-е гг. во Франции. В русской литературе после Гумилева элементы сюрреализма проявились в творчестве поэта русской эмиграции Б.Поплавского. Такой же тип образности — в знаменитом «Заблудившемся трамвае».
В мире наличной реальности невозможно подлинное чудо и подлинная красота — в этом смысл нового неожиданного сочетания в третьей строфе «Канцоны» («не приведет единорога / Под уздцы к нам белый серафим»).
Как видим, если прежде стилю Гумилева была свойственна эстетизированная, декоративная предметность, то в стихах последнего сборника материальность, фактурность тех или иных деталей служит совсем не орнаментальным целям. Вместо праздничной пестроты лирическому герою открывается теперь ограниченность земной жизни. Земное существование утратило для него самоценность.
Важно, что монолог лирического героя в «Канцоне» обращен к родственной ему душе. Более того, именно интимная связь двух душ оказывается источником метафизической интуиции героя. Обещание «подлинного мира» он видит в «сокровенной грусти» возлюбленной. Место предметной конкретности в финале стихотворения занимает «символистский» способ выражения — образы-символы «огненного дурмана» и «ветра из далеких стран», предельно развеществленные сочетания «все сверканье, все движенье», интонация недоговоренности.
При всей яркости образов и продуманности композиции в «Канцоне второй» нет самоцельной живописности. Изобразительные задачи уступили здесь место выразительным: стихотворение воспринимается как «пейзаж души», как непосредственная лирическая исповедь поэта. Поздняя поэзия Гумилева замечательно подтвердила один из тезисов, высказанных им в статье «Читатель»: «Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим».
Творчество Н. Гумилева
В творчестве многих поэтов начала ХХ в. есть некий собирательный образ, так или иначе связанный с разными руслами их поисков. Идеал Н. Гумилёва символически выражен в облике фантастической героини поэмы «Открытие Америки» – Музы Дальних Странствий. Неостановимые странствия художника были изменчивыми, неоднородными, но именно они определили его жизнь, искусство, романтическое мироощущение. Движение к манящим далям было, однако, насильственно прервано. Огульно обвиненного в антисоветском заговоре Гумилёва расстреляли в 1921г. Лишь спустя шесть с лишним десятилетий стало возможным открыто признать это преступление.
Родился Гумилёв в семье корабельного врача в Кронштадте. Учился в гимназии Царского села. Затем ненадолго (1900-1903) уезжал (новое назначение отца) в Грузию. Вернувшись, в 1906 г. окончил Николаевскую Царскосельскую гимназию. Однако уже пребывание в ней не было обычным. Естественные для юноши интересы и занятия сразу оттеснила напряженная внутренняя жизнь. Все определило рано проснувшееся, волнующее призвание поэта. Ещё в 1902-м «Тифлисский листок» опубликовал первое стихотворение Гумилёва – «Я в лес бежал из городов…».
События и факты биографии Гумилёва живо свидетельствуют о редком его мужестве и жажде познания мира. Окончив гимназию, он поехал в Париж для изучения французской литературы, но скоро покинул Сорбонну, отправившись, несмотря на запрет отца, в Африку. Мечта увидеть загадочные, нецивилизованные земли завладела поэтом. В первую поездку Гумилёв посетил лишь города: Стамбул, Измир, Порт-Саид, Каир. Но пережитое оставило в душе неизгладимый след. На этой таинственной для европейца земле он перенес много лишений и добровольных рискованных, иногда смертельных испытаний, а в результате привез ценные материалы для Петербургского Музея этнографии. В первую мировую войну ушел добровольцем на фронт, где не счел нужным оберегать себя, и участвовал в самых трудных маневрах. В мае 1917 г. уехал по собственному желанию на Салоникскую (Греция) операцию Антанты, с надеждой (неосуществившейся) вновь оказаться в Африке. Возвращение из Европы в полуразрушенный, голодный и холодный Петроград 1918 г. тоже было необходимым для Гумилёва этапом постижения себя и жизни.
Жадное стремление к путешествиям и опасностям было все-таки вторичным, вытекающим из всепроникающей страсти к литературному творчеству. В письме В.Брюсову Гумилёв так объяснил цель поездки в Абиссинею: «в новой обстановке найти новые слова». О зрелости поэтического видения и мастерства он думал постоянно и плодотворно.
Художественный талант Гумилёва точнее всего, представляют можно определить как смелое освоение всегда загадочной, безбрежной, чудесной страны русской словесности. Разнообразие проложенных здесь путей поражает. Гумилёв-автор сборников лирики, поэм, драм, очерков, рассказов, эссе, литературно-критических и публицистический статей, работ по теории стиха, рецензий о явлениях зарубежного искусства… А развитие самой родной Гумилёву стихии самовыражения – поэзии – отмечено небывалой интенсивностью. Одна за другой (начиная еще с гимназической поры) выходят его книги: 1905 – «Путь конквистадоров»; 1908 – «Романтические цветы»; 1910 – «Жемчуга»; 1912 – «Чужое небо»; 1916 – «Колчан»; 1918 – «Костер», «Фарфоровый павильон» и поэма «Мик»; 1921 – «Шатер» и «Огненный столб».
И весь этот массив творческих свершений «уложен» в какие-то полтора десятка лет.
В. Брюсов увидел в первом юношеском сборнике Гумилёва «новую школу» стиха, но упрекнул его в подражательности символистам. Воспетые автором ценности любви, красоты напоминали идеалы старших современников, но отстаивались «и громом и мечом». Мужественные интонации, волевое начало были новы, а почерпнутые их легенды новые образы Прекрасного обращены к земным запросам человека. Образ конквистадоров становится лишь символом завоевания красоты и любви.
«Романтические цветы» исполнены грустных ощущений: непрочности высоких порывов, призрачности счастья. Однако и здесь побеждает сила стремлений – преобразить сущее по воле автора. «Сам мечту свою создал» – сказал поэт. И создал ее, соотнося жизненные явления, но заглянув за черту их возможного существования (исток романтической образности). Экстатичность грез и влечений как нельзя более соответствует названию сборника.
Третья, зрелая книга «Жемчуга» во многом прояснило позицию художника. Именно здесь окончательно выявился мотив поиска – «чувства пути», обращенного теперь не к субъективным глубинам, а вовне. Однако подобная « объективизация» весьма условна, поскольку обретается «страна» духовного бытия. Поэтому совершенно как будто конкретная тема путешествия (здесь она впервые зримо выражена) символизирует дорогу эстетических исканий. Сам образ жемчугов почерпнут от небывало прекрасной земли: «Куда не ступала людская нога, | Где в солнечных рощах живут великаны! | И светят в прозрачной воде жемчуга». Открытие неведомых доселе ценностей одухотворяет и оправдывает жизнь.
В такой атмосфере возникает необходимость понять и утвердить личность, способную к могучим свершениям. В пути покоритель вершин не знает отступлений: «Лучше слепое Ничто, | Чем золотое вчера». Полет черного орла влечет глаз головокружительной высотой, и авторское воображение дорисовывает эту перспективу – «не зная тленья, он летел вперед»:
Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движения,
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.
Смело проявлено подлинно гумилевское – поиск Света за чертой бытия. Даже Мертвый, отданный костру, способен на дерзкое желание: «Я еще один раз отпылаю | Упоительной жизнью огня». Творчество провозглашается видом самосожжения: «На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ | И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача» («Волшебная скрипка»).
Образный строй соткан из знакомых реалий. Тем не менее они, разноисходные, контрастные, так соотнесены друг с другом, а главное, так свободно домыслены их свойства и функции, что возникает фантастический мир, передающий «сверхземные» по силе и характеру идеалу. «Я» субъекта редко проявлено открыто, но любому из воплощенных «лиц» сообщены его предельные эмоции и устремленность. Все преображено волей поэта.
В небольшом цикле «Капитаны» есть бытовой колорит, скажем, в береговой жизни мореплавателей. Возникают здесь фигуры прославленных путешественников: Гонзальво и Кука, Лаперуза и Васко да Гама. С редким мастерством воссоздается облик каждого героя через красочные детали одеяния («розоватые манжеты», «золото кружев»). Но все это только внешний, тематический пласт цикла, позволяющий сочно, зримо выразить внутренний. Он в воспевании подвига: «Ни один пред грозой не трепещет, | Ни один не свернет паруса». И в прославлении несгибаемой силы духа всех, «кто дерзает, кто хочет, кто ищет». Даже в оправдании их суровости (ранее грубо социологически истолкованной):
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабандских манжет.
Весь сборник проникнут волевой интонацией и самоиспепеляющей жаждой открыть неизвестные потенции в себе, человеке, жизни. Отсюда вовсе не следует, что Гумилёв предан бодряческим настроением. Испытания на избранном пути не совместимы с ними. Трагические мотивы рождены столкновением с «чудовищным горем», неведомыми врагами. Мучительна скучная, застойная реальность. Ее яды проникают в сердце лирического героя. Некогда расцвеченный романтическими красками «всегда узорный сад души» превращается в висящий, мрачный, куда низко, страшно наклоняется лик ночного светила – луны. Но тем с большей страстью отстаивается мужество поиска.
В статье «Жизнь стиха» Гумилёв указал на необходимость особой «расстановки слов, повтора гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма», чтобы читатель «испытывал то же, что сам поэт». В «Жемчугах» подобное мастерство достигло блеска.
«Тягучие» анапесты в части «Волшебной скрипки» доносят охватившую музыканта усталость. Ямбы первого стихотворения «Капитанов» электризуют энергической интонацией. Сгущение однотипных или контрастных признаков воссоздает конкретную атмосферу разных эпох и стран в «Старом конквистадоре», «Варварах», «Рыцаре с цепью», «Путешествии в Китае». С другой стороны, автор постоянно расширяет содержание каждого произведения средствами ассоциаций. Иногда со своими прежними образами («сад души», конквистадор, полет, огонь, пр.). Нередко с историко-культурными явлениями. Бальзаковский акцент возникает с упоминанием «шагреневых переплетов». Творчество и личность композиторов-романтиков (скорее всего, Шумана) немало подсказывает в «Мэстро». Капитан с лицом Каина углубляет тему Летучего голландца. Совершенно удивительны гумилёвские аллитерации: страх падения передает «з-з-з» – «бездонная внизу зияла», певучесть скрипки сочетание «вл» – «владей волшебной». Найденное здесь поэт многообразно разовьет в последующем своем творчестве.
Весной 1909 г. Гумилёв сказал о своем заветном желании: «Мир стал больше человека. Взрослый человек (много ли их?) рад борьбе. Он гибок, он силен, он верит в свое право найти землю, где можно было бы жить». Радость борьбы проявилась в активной литературно-организаторской деятельности. В 1910 г. Гумилёв создает «Цех поэтов», объединяющий большую группу его единомышленников, для разрешения профессиональных вопросов. В 1913 г. вместе с С. Городецким формирует объединение акмеистов. Поиск «земли» в его обощенном смысле определил новый этап поэзии Гумилёва, ясно ощутимый в книге «Чужое небо».
Здесь появилось «Открытие Америки». Рядом с Колумбом встала Муза Дальних Странствий. Но она не просто увлекает путешествиями, под ее легкими крылами Колумб находит неизвестную ранее, прекрасную землю:
Чудо он духовным видит оком,
Целый мир, неведомый пророкам,
Что залег в пучинах голубых,
Там, где запад сходится с востоком.
Таинственная часть света открыта. Однако ее дары не освоены: Колумб возвращается в Старый Свет. И чувство глубокого неудовлетворения охватывает вчерашнего победителя:
Раковина я, но без жемчужин,
Я поток, который был запружен,
Спущенный, теперь уже не нужен.
«Как любовник, для игры другой | Он покинут Музой Странствий». Аналогия с разочарованиями художника безусловна и грустна. «Жемчужина», которая светит внутреннему взору, нет, ветреная Муза покинула того, кто потерал свою «драгоценность». О цели поиска задумывается поэт.
Гумилёв стремился понять феномен жизни. Она предстает в необычном и емком образе – «с иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре льва, забывающий игрушки между белых усталых рук». Естественна и сильна, сложна и противоречива жизнь. Но сущность ее ускользает. Отвергнув обманчивой блеск «жемчужин», лирический герой все-таки обретает свою «землю». Она воистину неисчерпаемо богата, главное, всегда нуждается в человеке, дающем ей новое дыхание. Так в подтексте (прямо не названное) возникает священное понятие – служение культуре, гармонизация ее современного для автора состояния. Идеалом избран давно ушедший в прошлое античный мир:
Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевать древний Родос.
Путь, проложенный во времени, соединяет минувшее и грядущее подвигом творящей красоту личности.
При такой величественной цели обретение свежих впечатлений, форм, слов становится остро необходимым. Гумилёв отражает «бессмертные черты» увиденного, пережитого. В том числе и в Африке. В сборник вошли основанные на местном фольклоре абиссинские песни («Военная», «Пять быков», «Невольничья», «Занзибарские девушки» и др.). Здесь воспроизведен природный, социальный, бытовой колорит. Экзотика, однако, дает не просто неожиданные образы, детали, а понимание близких для автора духовных особенностей: сильных, естественных чувств, слияния с природой, образного мышления. Живые соки примитивной культуры впитал художник.
Подлинной же «страной» своего «обитания» Гумилёв почитал искусство; кумиром на этой «обетованной земле» назвал французского поэта Теофиля Готье. В статье, посвященной ему, выделил свойственные им обоим творческие устремления: избегать «как случайного, конкретного, так и туманного, отвлеченного»; познать «величественный идеал жизни в искусстве и для искусства». Неуловимая в обыденном существовании красота постигается лишь художником и только для дальнейшего развития творчества, обогащения духовной культуры. В «Чужое небо» включена подборка лирики Готье в переводе Гумилёва. Среди них – строки восхищения человеческим даром созидания Прекрасного:
Все прах. – Одно, ликуя,
Искусство не умрет,
Переживет народ.
Проблема художественного мастерства приобрела поэтому принципиальный характер. С одной стороны, Гумилёв покланяется остроте зрения, обращенного к многообразию сущего: «У поэтов должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится». С другой – считал: «стихи – одно, а жизнь – другое». Понятие мастерства традиционно связывалось с достижением совершенных форм, с глобальным вопросом о преображении реалий в достойную для искусства ценность. В переводах Готье это вылилось в афористическое утверждение:
Создание тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней.
Смысл бытия-творчества был найден. Гумилёв захотел выстраданную им истину развить в содружестве с единомышленниками. Так возникла идея их объединения под знаменем акмеизма.
Соотношение жизни и искусства в поэзии Гумилёва явственно проступает в книге «Колчан». Здесь были отражены его наблюдения и переживания в период первой мировой войны. На фронте Гумилёв сражался, по свидетельству очевидцев, с завидным спокойным мужеством, за что был награжден двумя Георгиевскими крестами. А за патриотизм поэта долгие годы обвиняли в шовинизме. Особое негодование вызывала строка из стихотворения «Пятистопные ямбы»: «В немолчном зове боевой трубы | Я вдруг услышал песнь своей судьбы…» Тогда как это было искреннее и нравственное признание. Испытания Гумилёв по-прежнему считал необходимой школой роста, теперь нужного не только ему – всей стране. В слиянии с ней открывал новые горизонты осмысления мира и человека. Лирика «Колчана» позволяет увидеть, как проходил такой процесс.
Россия пробуждала больные вопросы. Считая себя «не героем трагическим» – «ироничнее и суше», поэт постигал лишь свое отношение к родине:
О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?
В «логовище огня» появляется единение с «волшебницей суровой»:
Золотое сердце России
Мерно бъется в груди моей…
Вот почему: «…смерть ясна и проста: | Здесь товарищ над павшим тужит | И целует его в уста». Горькая година дарит вооистину простое и великое чувство взаимопонимание. Таков житейский, кстати, чуть намеченный в стихах, смысл пережитого. Есть и глубокий, философский, соответствующий запросам жизни.
В прозаических «Записках кавалериста» Гумилев раскрыл все тяготы войны, ужас смерти, муки тыла. Тем не менее не это знание легло в основу «Колчана». Видя народные беды, Гумилев пришел к широкому выводу: «Дух также реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его». Мысль эта получила художественное развитие.
В страданиях растет мудрая требовательность человека к себе: «как могли мы прежде жить в покое...». Отсюда вырастает подлинно гумилевская тема души и тела. Пока противоборства между ними нет:
Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимает,
Слепо повинуется ему.
В «Колчане» многогранно выражена духовная сила: «все идет душа, горит своим уделом…», «все в себе вмещает человек, который любит мир»; «солнце духа, ах, беззакатно, не земле его побороть».
Муза Дальних Странствий теперь пробуждается не зовом простанств и времен, а самоуглублением личности, ее «огнедышашей беседой», «усмирением усталой плоти». Но такое «путешествие», может быть еще труднее и ответственнее. Сурово развенчивается якобы присущая всем прежде близорукость: «Мы никогда не понимали | Того, что стоило понять»; «И былое темное бремя | Продолжает жить в настоящем». Гумилёв обращается к мифологии, творчеству ушедших из жизни мастеров. Но лишь затем, чтобы выверить в чужом опыте свой поиск Прекрасного в человеческой душе. Оно соотнесено с искусством. Художнику адресована высокая цель – слагать «окрыленные стихи, расковывая сон стихий» (аллитерация, подчеркивающая контраст). Среди глухих, непрозревших:
И символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.
Противоположные состояния в конечном счете оказываются плодами одного «сада души». Мучительных борений, раздвоенности здесь нет. Но несогласные между собой начала разделены резкой гранью на свет и тьму. Диссонансы воплощены с проникновением в реальный, зримый мир и средствами безудержной фантазии. Ясно чувствуется обычные запахи: «смол, и пыли, и травы», «пахнет тлением заманчиво земля»; видятся: «ослепительная высота», «дикая прелесть степных раздолий», «таинство лесной глуши». А рядом удивительное – «зыбкие дали зеркал», «сатана в нестерпимом блеске», человечные в страданиях, «когда-то страшные» глаза мифической Медузы. И всюду: «Краски, краски – ярки и чисты». Разноисходное организовано авторской чеканной мыслью. «Теперь мой голос медлен и размерен» – признание самого поэта. Строго, взыскательно постигаются высшие запросы в переломное время.
Раздумья о «солнце духа» и человеческих внутренних контрастах привели Гумилёва к подведению личных жизненных итогов. Они были выражены в стихах «Костра», куда вошла лирика парижского и лондонского альбомов, созданных в столицах Франции и Англии, когда Гумилёв участвовал в операции Антанты.
Автор исходил будто из самых «малых» наблюдений – за деревьями, «оранжево-красным небом», «медом пахнущим лучом», «больной» в ледоходе рекой. Неповторима здесь выразительность пейзажа. Но привлекала Гумилёва не только природа. Он открывал тайное яркой зарисовки, объясняющее его мироощущение. Поэт по-прежнему тяготел к идее преображения сущего, в чем можно не сомневаться, услышав его страстный призыв к скудной земле, почти заклинание: «И стань, как ты и есть, звездою, | Огнем пронизанной насквозь!» Всюду он искал возможность «умчаться вдогонку свету». Будто юной мечтательный герой Гумилёва вернулся на страницы новой книги. Нет, этого не произошло. Зрелое и грустное постижение своего места в мире – эпицентр «Костра».
Теперь можно по-новому понять, почему дальняя дорога звала поэта, в чем состояла ее опасность. Стихотворение «Прапамять» заключает в себе антиномию:
И вот вся жизнь! Круженье, пенье, И вот опять восторг и горе,
Моря, пустыни, города, Опять, как прежде, как всегда,
Мелькающее отраженье Седою гривой машет море,
Потерянного навсегда. Встают пустыни, города.
Маяк поиска пути никогда не гаснет, так как обещает вернуть «потерянное навсегда». Поэтому лирический герой называет себя «хмурым странником», который «снова должен ехать, должен видеть». Под этим знаком предстают встречи со Швейцарией, Норвежскими горами, Северным морем, садом в Каире. И складываются на этой вещественной основе емкие, обобщающие образы печального странничества: блуждание, «как по руслам высохших рек», «слепые переходы пространств и времен».
В любовные лирике читаются сходные мотивы. Возлюбленная ведет «сердце к высоте», «рассыпая звезды и цветы». Нигде, как здесь, не звучал такой сладостный восторг перед женщиной. Но счастье – лишь во сне, бреду. А реально – томление по непостижимому:
Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть я знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.
Неизмеримо глубже, многограннее и бесстрашнее воплощены духовные коллизии в произведениях «Огненного столпа». Каждое из них – жемчужина. Вполне можно сказать, что это давно искомое сокровище поэт создал своим словом. Что не противоречит общей концепции сборника, где творчеству отводится роль священнодействия. Разрыва между желаемым и свершенным для художника не существует.
Стихотворения рождены вечными проблемами – смысла жизни и счастья, противоречий души и тела, идеала и действительности. Обращение к ним сообщает поэзии величавую строгость, мудрость притчи, афористичность звучания. Но все окрашено теплой человеческой интонацией, исповедальной искренностью. Воедино сливаются индивидуальное и общее, строгая мысль о мире и трепетные личные признания.
Чтение «Огненного столпа» вызывают ощущение восхождения на большую высоту. Невозможно определить, какой из динамических «поворотов» больше волнует в «Памяти», «Лесе», «Душе и теле», «Шестом чувстве». Каждый раз открывается новый «слой бытия».
Вступительная строфа «Памяти» тревожит горьким наблюдением-предостережением:
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Затем читателей покоряет исповедь поэта о своем прошлом. Но одновременно и мучительная дума о несовершенстве, шаткости людских судеб. Эти девять проникновенных четверостиший неожиданно подводят к преобразующему тему суровому аккорду:
Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во тьме.
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
А от него – к трепетной мечте о расцвете земли, страны. Однако и здесь нет ее завершения. Заключительные строки, частично повторяющие начальные, несут новое грустное ощущение временной ограниченности человеческой жизни. Симфонизмом развития обладает стихотворение, как многие другие сборники.
Редкой выразительности Гумилёв достигает соединением несоединимых элементов. Лес в одноименном лирическом создании неповторимо причудлив. В нем, о котором «не загрезишь и во сне», живут великаны, карлики, львы, появляются «женщины с кошачьей головой» и… обычные рыбаки, кюре. Кажется, что поэт вернулся к ранним своим фантасмагориям. Но здесь фантастическое легко снято: «Может быть, тот лес – душа моя…»
Для воплощения сложных, запутанных, порой непонятных внутренних порывов и предприняты столь смелые образные сопоставления. В «Слоненке» с заглавным образом связаны трудно с ним ассоциирующиеся переживания любви. Но такое соотнесение оказывается необходимым для раскрытия двух ипостасей этого чувства: заточенного «в тесную клетку» и сильного, сметающего все преграды, подобно тому слону, «что когда то нес к трепетному Риму Ганнибала». Многозначность каждого явления запечатлена и углублена в конкретном, вещном облике.
Гумилёв создал рожденные его фантазией, емкие символы - на века. «Заблудившийся трамвай» символизирует безумное и роковое движение истории в никуда. И обставлено оно устрашающими деталями мертвого царства. С ним больно сцеплены чувственно-изменчивые (страх, страдания, нежность к любимой) душевные состояния. Донесена трагедия человечества и личности, что, как нельзя ярче, выражена и истолкована в странном образе «заблудившегося трамвая».
Поэт как бы постоянно раздвигал границы текста. Особую роль играли неожиданные концовки. Триптих «Душа и тело» будто продолжал знакомую тему «Колчана», хотя в новом повороте (спор между душой и телом за власть над человеком). А в финале вдруг возникает непредвиденное: все побуждения людей оказываются «слабым отблеском» высшего сознания. «Шестое чувство» сразу увлекает контрастом между скудными утехами и подлинной красотой, любовью, поэзией. Эффект будто достигнут. Как вдруг в последней строфе мысль вырывается к иным рубежам – к мечте о преображении человеческой природы:
Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Сложнейшие, трудно воплощаемые явления проступают в построчных образах, где совмещены обычные предметные детали с обобщенными, порой абстрактными понятиями. Каждый из таких образов приобрел самостоятельное значение: «скальпель природы и искусства», «билет в Индию Духа», «сад ослепительных планет…».
Тайн поэтического «колдовства» в «Огненном столпе» не счесть. Но оно необходимо на избранном пути: открыть сущность и перспективы духовного бытия в строгих, «чистых» художественных формах. При мужественном подъеме к этим высотам Гумилёв был очень далек от самоуспокоенности. Болезненное ощущение непреодолимого окружающего несовершенства было мучительным. Катаклизмы революционного времени предельно усиливали трагические предчувствия. Они и вылились в «Заблудшемся трамвае»:
Мчался он бурей, темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
«Огненный столб» таял, однако, в своей глубине поклонение свету и красоте. Искусство поэта позволило утвердить эти начала без малейшего оттенка умозрительности или идеализации. В «Канцоне второй» читаем:
Там, где все сверканье, все движенье,
Пенье все, мы там с тобой живем;
Здесь же только наше отраженье.
Положил гниющий водоем.
Гумилёв учил и, думается, научил своих читателей помнить и любить «Всю жестокую, милую жизнь! | Всю родную, страшную землю…”. И жизнь, и землю он видел бескрайними, манящими далями, что помогло “прогнозировать” нерожденный еще человечеством опыт, следую своему “невыразимому прозванью”. Романтическая исключительность раскрытых душевных движений и метаморфоз дала такую возможность. Именно таким бесконечно дорого нам поэтическое наследие Н. Гумилёва.
Список литературы
Гумилёв Н. Наследие символизма и акмеизма //Русская литература ХХ в. Дооктябрьский период/ Сост. Н.А.Трифонов.- М., 1960.
Русская литература: ХХ в.: Справ. Материалы: Кн. Для учащихся ст. классов/ Сост. Л.А.Смирнова. – М.:Просвещение, 1995.
Лукницкая В. К. Николай Гумилёв: Жизнь поэта по материалам домашних архивов семьи Лукницких. – Л., 1990.
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Николай ГУМИЛЕВ (1886-1921)
- Детство и юность Гумилева.
- Раннее творчество Гумилева.
- Путешествия в творчестве Гумилева.
- Гумилев и Ахматова.
- Любовная лирика Гумилева.
- Философская лирика Гумилева.
- Гумилев и Первая Мировая война.
- Война в творчестве Гумилева.
- Тема России в творчестве Гумилева.
- Драматургия Гумилева.
- Гумилев и революция.
- Библейские мотивы в лирике Гумилева.
- Арест и расстрел Гумилева.
Наследие Н. С. Гумилева, поэта редкой индивидуальности, лишь недавно, после долгих лет забвения, пришло к читателю. Его поэзия привлекает новизной и остротой чувств, взволнованной мыслью, графической четкостью и строгостью стихотворного рисунка.
- Детство и юность Гумилева.
Николай Степанович Гумилев родился 3(15) апреля 1886 года в Кронштадте в семье морского врача. Вскоре отец его вышел в отставку, и семья переехала в Царское Село. Здесь в 1903 году Гумилев поступает в 7-й класс гимназии, директором которой был замечательный поэт и педагог И. Ф. Анненский, оказавший огромное влияние на своего ученика. О роли И. Анненского в его судьбе Гумилев писал в стихотворений 1906 года «Памяти Анненского»:
К таким нежданным и певучим бредням,
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.
После окончания гимназии Гумилев уехал в Париж, где слушал лекции по французской литературе в Сорбоннском университете, изучал живопись. Возвратившись в мае 1908 года в Россию, Гумилев целиком отдается творческой работе, проявив себя как выдающийся поэт и критик, теоретик стиха, автор широко известной ныне книги художественной критики «Письма о русской поэзии».
2. Раннее творчество Гумилева.
Писать стихи Гумилев начал еще в гимназическом возрасте. В 1905 году 19-летний поэт выпускает свой первый сборник - «Путь конквистадоров». Вскоре, в 1908 году, последовал и второй - «Романтические цветы», а затем и третий - «Жемчуга» (1910), принесший ему широкую известность.
В самом начале творческого пути Н. Гумилев примыкал к младосимволистам. Однако достаточно рано разочаровался в этом течении и стал основателем акмеизма. При этом он продолжал относиться к символистам с должным почтением, как к достойным учителям и предшественникам, виртуозам художественной формы. В 1913 году в одной из своих программных статей «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев, констатируя, что «символизм закончил свой круг развития и теперь падает», добавлял при этом: «Символизм был достойным отцом».
В ранних стихотворениях Гумилева господствует апология волевого начала, романтизированные представления о сильной личности, которая решительно утверждает себя в борьбе с врагами («Помпей у пиратов»), в тропических странах, в Африке и Южной Америке.
Герои этих произведений - властные, жестокие, но и мужественные, хотя и бездушные завоеватели, конквистадоры, открыватели новых земель, каждый из которых в минуту опасности, колебаний и сомнений
Или, бунт на боргу обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Процитированные строки взяты из баллады «Капитаны», вошедшей в сборник «Жемчуга». Они очень ярко характеризуют поэтические симпатии Гумилева к людям подобного типа,
Чья не пылью затерянных хартий -
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
Свежий ветер настоящего искусства наполняет «паруса» подобных стихотворений, безусловно, связанных с романтической традицией Киплинга и Стивенсона.
3. Путешествия в творчестве Гумилева.
Гумилев много путешествовал. Добровольный скиталец и пилигрим, он исколесил и исходил тысячи верст, побывал в непроходимых джунглях Центральной Африки, изнывал от жажды в песках Сахары, увязал в болотах Северной Абиссинии, прикасался руками к развалинам Междуречья… И не случайно экзотика стала не только темой стихотворений Гумилева: ею пропитан сам стиль его произведений. Музой Дальних Странствий называл он свою поэзию, и верность ей сохранил до конца дней. При всем много образии тематики и философской глубины позднего Гумилева, стихи о его путешествиях и странствиях бросают совершенно особый отсвет на все творчество.
Ведущее место в ранней поэзии Гумилева занимает африканская тема. Стихи об Африке, такой далекой и загадочной в представлении читателей начала века, придавали особое своеобразие творчеству Гумилева. Африканские стихи поэта - дань его глубокой любви к этому континенту и его людям. Африка в его поэзии овеяна романтикой и полна притягательной силы: «Сердце Африки пенья полно и пыланья» («Нигер»). Это колдовская страна, полная очарования и неожиданностей («Абиссиния», «Красное море», «Африканская ночь» и др.).
Оглушенная ревом и топотом,
Облаченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.
Можно только восхищаться любовью русского поэта-путешественника к этому континенту. Он посещал Африку как настоящий друг и исследователь-этнограф. Не случайно в далекой Эфиопии до сих пор хранят добрую память о Н. Гумилеве.
Прославляя открывателей и завоевателей дальних земель, поэт не уходил от изображения судеб покоряемых ими народов. Таково, например, стихотворение «Невольничья» (1911), в котором рабы-невольники мечтают пронзить ножом тело угнетателя-европейца. В стихотворении «Египет» симпатию автора вызывают не властители страны - англичане, а ее истинные хозяева, те,
Кто с сохою или бороною Черных буйволов в поле ведет.
Произведения Гумилева об Африке характеризуются яркой образностью и поэтичностью. Нередко даже простое географическое название («Судан», «Замбези», «Абиссиния», «Нигер» и др.) влечет в них за собою целую цепь разнообразных картин и ассоциаций. Полный тайн и экзотики, знойного воздуха и неведомых растений, удивительных птиц и животных, африканский мир в стихотворениях Гумилева пленяет щедростью звуков и цветов, многокрасочной палитрой:
Целый день над водой, словно стая стрекоз,
Золотые летучие рыбы видны,
У песчаных, серпами изогнутых кос,
Мели, точно цветы, зелены и красны.
(«Красное море»).
Свидетельством глубокой и преданной любви поэта к далекому африканскому континенту явилась и первая поэма Гумилева «Мик», красочно повествующая о маленьком абиссинском пленнике по имени Мик, его дружбе со старым павианом и белым мальчиком Луи, их совместном побеге в город обезьян.
Как лидер акмеизма, Гумилев требовал от поэтов большого формального мастерства. В своем трактате «Жизнь стиха», он утверждал, что для того, чтобы жить в веках, стихотворение, помимо мысли и чувства, должно иметь «мягкость очертаний юного тела… и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту - для нее одной открыто будущее, и - утонченность, как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков…». Для его собственной поэзии характерна чеканность стиха, стройность композиции, подчеркнутая строгость в отборе и сочетании слов.
В стихотворении «Поэту» (1908) Гумилев так выразил свое творческое кредо:
Пусть будет стих твой гибок и упруг,
Как тополь зеленеющей долины,
Как грудь земли, куда вонзился- плуг,
Как девушка, не знавшая мужчины.
Уверенную строгость береги,
Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
Хотя у музы легкие шаги
Она богиня, а не танцовщица.
Здесь явно ощущается перекличка с Пушкиным, тоже считавшим искусство высочайшей сферой духовного бытия, святыней, храмом, куда следует входить с глубоким благоговением:
Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво.
Уже первые стихотворения поэта изобилуют яркими сравнениями, оригинальными эпитетами и метафорами, подчеркивающими многообразие мира, его красоту и изменчивость:
И солнце пышное вдали
Мечтало снами изобилья,
И целовала лик земли
В истоме сладкого бессилья.
А вечерами в небесах
Горели алые одежды,
И обагренные, в слезах,
Рыдали Голуби Надежды
(«Осенняя песня»)
Гумилев - преимущественно поэт-эпик, его излюбленный жанр - баллада с ее энергичным ритмом. В то же время экзотическая, патетически приподнятая поэзия раннего Гумилева подчас несколько холодна.
4. Гумилев и Ахматова.
Изменения в его творчестве происходят в 1910-е годы. И связаны они во многом с личными обстоятельствами: со знакомством, а затем и женитьбой на А. Ахматовой (тогда еще Анной Горенко). Познакомился с ней Гумилев еще в 1903 году, на катке, влюбился, несколько раз делал предложения, но согласие на брак получил лишь весной 1910 года. Гумилев об этом напишет так: Из логова змиева, Из города Киева, Я взял не жену, а колдунью. А думал - забавницу, Гадал - своенравницу, Веселую птицу-певунью.
Покликаешь - морщится, Обнимешь - топорщится, А выйдет луна - затомится, И смотрит, и стонет, Как будто хоронит Кого-то,- и хочет топиться. («Из логова змиева»»)
После выхода сборника «Жемчуга» за Гумилевым прочно закрепился титул признанного мастера поэзии. По-прежнему от его многих произведений веет экзотикой, необычными и незнакомыми образами милой его сердцу Африки. Но теперь мечты и чувства лирического героя становятся более осязаемыми и земными. (В 1910-е годы в творчестве поэта начинает появляться любовная лирика, поэзия душевных движений, возникает стремление проникнуть в прежде задраенный жестким панцирем недоступности и властности внутренний мир своих персонажей и особенно в душу лирического героя. Не всегда это получалось удачно, ибо Гумилев прибегал в некоторых стихотворениях этой тематики к ложноромантическому антуражу, типа:
Я подошел, и вот мгновенный,
Как зверь, в меня вцепился страх:
Я встретил голову гиены
На стройных девичьих плечах.
Но в поэзии Гумилева немало стихотворений, которые по праву можно назвать шедеврами, настолько глубоко и пронзительно звучит в них тема любви. Таково, например, стихотворение «О тебе» (1916), пронизанное глубоким чувством, оно звучит как апофеоз любимой:
О тебе, о тебе, о тебе,
Ничего, ничего обо мне!
В человеческой темной судьбе
Ты - крылатый призыв к вышине.
Благородное сердце твое -
Словно герб отошедших времен.
Освещается им бытие
Всех земных, всех бескрылых племен.
Если звезды, ясны и горды,
Отвернутся от нашей земли,
У нее есть две лучших звезды:
Это - смелые очи твои.
Или вот стихотворение «Девушке» (1911), посвященное 20-летию Маши Кузьминой-Караваевой, двоюродной племяннице поэта по матери:
Мне не нравится томность
Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы.
Во многих стихотворениях Гумилева отразилось его глубокое чувство к Анне Ахматовой: «Баллада», «Отравленный», «Укротитель зверей», «У камина», «Однажды вечером», «Она» и др. Таков, например, прекрасно созданный поэтом-мастером образ жены и поэта из стихотворения «Она»:
Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.
Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дальней и отрадной
Высокомерна и глуха.
Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.
5. Любовная лирика Гумилева.
К лучшим произведениям гумилевской любовной лирики следует также отнести стихотворения «Когда я был влюблен», «Ты не могла иль не хотела», «Ты пожалела, ты простила», «Все чисто для чистого взора» и другие. Любовь у Гумилева предстает в самых различных проявлениях: то как «нежный друг» и одновременно «беспощадный враг» («Рассыпающая звезды»), то словно «крылатый призыв к вышине» («О тебе»). «Только любовь мне осталась…»,- делает поэт признание в стихотворениях «Канцона первая» и «Канцона вторая», где он приходит к выводу, что всего отрадней на свете «нам дрожание милых ресниц//И улыбка любимых губ».
В лирике Гумилева представлена богатая галерея женских характеров и типов: падшие, целомудренные, царственно-недоступные и зовущие к себе, смиренные и гордые. Среди них: страстная восточная царица («Варвары»), загадочная колдунья («Колдунья»), прекрасная Беатриче, покинувшая ради любимого рай («Беатриче») и другие.
Поэт любовно рисует благородный облик женщины, умеющей прощать обиды и щедро дарить радость, понимать бури и сомнения, теснящиеся в душе ее избранника, исполненного глубокой благодарности «за ослепительное счастье//Хоть иногда побыть с тобой». В поэтизации женщины также проявилось рыцарское начало личности Гумилева.
6. Философская лирика Гумилева.
В лучших стихотворениях сборника «Жемчуга» рисунок гумилевского стиха отчетлив и обдуманно прост. Поэт создает зримые картины:
Смотрю на тающую глыбу,
На отблеск розовых зарниц,
А умный кот мой ловит рыбу
И в сеть заманивает птиц.
Поэтическая картина мира в стихотворениях Гумилева привлекает своей конкретикой и осязаемостью образов. Поэт материализует даже музыку. Он видит, например, как
Звуки мчались и кричали Как виденье, как гиганты, И метались в гулкой зале, И роняли бриллианты.
«Бриллианты» слов и звуков лучших стихов Гумилева исключительно красочны и динамичны. Его поэтический мир на редкость живописен, полон экспрессии и жизнелюбия. Четкая и упругая ритмика, яркая, порою избыточная образность сочетаются в его поэзии с классической стройностью, выверенностью, продуманностью формы, адекватно воплощающей богатство содержания.
В своем поэтическом изображении жизни и человека Н. Гумилев был способен подниматься до глубин философских раздумий и обобщений, обнаруживая почти пушкинскую или тютчевскую силу. Он много размышлял о мире, о Боге, о назначении человека. И эти раздумья нашли разнообразное отражение в его творчестве. Поэт был убежден, что во всем и всегда «Господне слово лучше хлеба питает нас». Не случайно значительную часть его поэтического наследия составляют стихотворения и поэмы, навеянные евангельскими сюжетами и образами, проникнутые любовью к Иисусу Христу.
Христос был нравственно-этическим идеалом Гумилева, а Новый Завет - настольной книгой. Евангельскими сюжетами, притчами, наставлениями навеяны поэма Гумилева «Блудный сын», стихотворения «Христос», «Ворота рая», «Рай», «Рождество в Абиссинии», «Храм твой. Господи, в небесах…» и другие. Читая эти произведения, нельзя не заметить, какая напряженная борьба происходит в душе его лирического героя, как мечется он между противоположными чувствами: гордыней и смирением.
Основы православной веры были заложены в сознании будущего поэта еще в детстве. Он воспитывался в религиозной семье. Истинно верующей была его мать. Анна Гумилева, жена старшего брата поэта, вспоминает: «Дети воспитывались в строгих правилах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней - глубоко верующим христианином».
О посещениях Гумилевым церковных богослужений и его убежденной религиозности пишет в своей книге «На берегах Невы» и хорошо знавшая поэта, его ученица Ирина Одоевцева. Религиозность Николая Гумилева помогает многое понять в его характере и творчестве.
Размышления о.Боге неотделимы у Гумилева от раздумий о человеке, его месте в мире. Мировоззренческая концепция поэта получила предельно ясное выражение в заключительной строфе стихотворной новеллы «Фра Беато Анджелико»:
Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенно и убога.
Но все в себя вмещает человек.
Который любит мир и верит в Бога.
Все творчество поэта и есть прославление человека, возможностей его духа и силы воли. Гумилев был страстно влюблен в жизнь, в ее многообразные проявления. И эту влюбленность он стремился донести до читателя, сделать из него «рыцаря счастья», ибо счастье зависит, убежден он, прежде всего от самого человека.
В стихотворении «Рыцарь счастья» он пишет:
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен.
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.
Пусть он придет, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами.
Про голубую утреннюю тьму.
Пронзенную лучами и стихами.
Пусть он придет. Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова.
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.
А если все-таки он не поймет.
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль - к барьеру!
Это был символ веры. Пессимизма, уныния, недовольства жизнью, «мировой скорби» он категорически не принимал. Гумилева не зря называли поэтом-воином. Путешествия, испытание себя опасностью были его страстью. О себе он пророчески писал:
Я умру не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели.
Утонувшей в густом плюще ( «Я и вы).
7. Гумилев и Первая Мировая война.
Когда началась первая мировая война, Гумилев добровольцем пошел на фронт. Его храбрость и презрение к смерти стали легендой. Два солдатских Георгия - высшие для воина награды, служат лучшим подтверждением его храбрости. Об эпизодах своей боевой жизни Гумилев рассказал в «Записках кавалериста» 1915 г. и в ряде стихотворений сборника «Колчан». Как бы подводя итог своей военной судьбы, он писал в стихотворении «Память»:
Знал oнмуки холода и жажды.
Сон тревожный, бесконечный путь.
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.
Нельзя согласиться с теми, кто считает военные стихи Гумилева шовинистическими, воспевающими «священное дело войны». Поэт видел и осознавал трагедию войны. В одном из своих стихотворений’он писал;
И год второй к концу склоняется. Но также реют знамена. И также буйно издевается Над нашей мудростью война.
8. Война в творчестве Гумилева.
Гумилева влекла яркая романтизация подвига, ибо он был человеком рыцарского строя души. Война в его изображении предстает как явление, родственное бунтующей, разрушительной, гибельной стихни. Поэтому столь часто встречаем мы в его стихотворениях уподобление боя грозе. Лирический герой этих произведений погружается в огневую стихию сражения без страха и уныния, хотя и понимает, что смерть подстерегает его на каждом шагу:
Она везде - и в зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка.
То на коне венгерского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.
Мужественное преодоление физических трудностей и страданий, страха смерти, торжество духа над телом стали одной из основных тем произведений Н. Гумилева о войне. Победу духа над телом он считал основным условием творческого восприятия бытия. В «Записках кавалериста» Гумилев писал: «Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-либо в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые дремавшие прежде силы». Эти же мысли пронизывают и стихотворения поэта:
Расцветает дух, как роза мая.
Как огонь, он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая
Смело подчиняется ему.
Страх смерти, утверждает поэт, преодолевается в душе русских воинов осознанием необходимости защитить независимость Родины.
9. Тема России в творчестве Гумилева.
Тема России проходит красной нитью почти через все творчество Гумилева. Он имел полное право утверждать:
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
Но особенно интенсивно эта тема проявила себя в цикле стихотворений о войне, участие в которой для героев его произведений - дело праведное и святое. Поэтому
Серафимы, ясны и крылаты.
За плечами воинов видны.
На свои подвиги во имя Родины русские воины благославляемы высшими силами. Вот почему столь органично в произведениях Гумилева присутствие подобных христианских образов. В стихотворении «Пятистопные ямбы» он утверждает:
И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием паяна
И ясностью, и мудростью; о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.
Герои Гумилева воюют «ради жизни на земле». Эта мысль с особой настойчивостью утверждается в сти хотворении «Новорожденному», проникнутом христиан скими мотивами жертвенности во имя счастья будущих поколений. Автор убежден, что родившийся. под грохот орудий младенец —
…будет любимец Бога,
Он поймет свое торжество.
Он должен. Мы бились много
И страдали мы за него.
Гумилевеские стихи о войне - свидетельство дальнейшего роста его творческого дарования. Поэт по-прежнему любит «великолепье пышных слов», но в то же время он стал разборчивее в выборе лексики и соединяет былое стремление к эмоциональной напряженности и яркости с графической четкостью художественного образа и глубиной мысли. Вспомнив знаменитую картину боя из стихотворения «Война», поражающую необычным и удивительно точным метафорическим рядом, простотой и ясностью образного слова:
Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.
Мы найдем в стихотворениях поэта немало точно подмеченных деталей, делающих мир его военных стихов одновременно осязаемо земным и неповторимо лирическим:
Здесь священник в рясе дырявой
Упоенно поет псалом.
Здесь играют напев величавый
Над едва заметным холмом.
И поле, полное врагов могучих. Гудящих грозно бомб и пуль певучих, И небо в молнийных и грозных тучах.
Вышедший в годы первой мировой войны сборник «Колчан» включает в себя не только стихотворения, передающие состояние человека на войне. Не менее важно в эгой книге изображение внутреннего мира лирического героя, а также стремление запечатлеть самые различные жизненные ситуации и события. Во многих стихотворениях отражены важные этапы жизни самого поэта: прощание с гимназической юностью («Памяти Анненского»), поездка в Италию («Венеция», «Пиза»), воспоминания о былых путешествиях («Африканская ночь»), о доме и семье («Старые усадьбы») и др.
10. Драматургия Гумилева.
Пробовал себя Гумилев и в драматургии. В 1912- 1913 годах одна за другой появляются три его одноактные пьесы в стихах: «Дон Жуан в Египте», «Игра», «Актеон». В первой из них, воссоздавая классический образ Дон Жуана, автор переносит действие в условия новейшего времени. Дон Жуан предстает в изображении Гумилева духовно богатой личностью, на голову выше его антипода, ученого прагматика Лепорелло.
В пьесе «Игра» перед нами тоже ситуация острого противостояния: юный нищий романтик Граф, пытающийся вернуть себе владение предков, контрастно противопоставлен холодному и циничному старому роялисту. Произведение кончается трагически: крушение мечты и надежд приводит Графа к самоубийству. Симпатии автора всецело отданы здесь людям, подобным мечтателю Графу.
В «Актеоне» Гумилев переосмыслил древнегреческие и древнеримские мифы о богине охоты Диане, охотнике Актеоне и легендарном царе Кадме — воине, зодчем, труженике и творце, основателе города Фивы. Умелая контаминация древних мифов позволила автору ярко высветить положительных персонажей - Актеона и Кадма, воссоздать жизненные ситуации, полные драматизма и поэзии чувств.
В годы войны Гумилев пишет драматическую поэму в четырех действиях «Гондла», в которой с симпатией изображен физически слабый, но могучий духом средневековый ирландский скальд Гондла.
Перу Гумилева принадлежит и историческая пьеса «Отравленная туника» (1918) повествующая о жизни византийского императора Юстиниана I. Как и в предыдущих произведениях, основной пафос этой пьесы состоит в идее противостояния благородства и низости, добра и зла.
Последним драматическим опытом Гумилева явилась прозаическая драма «Охота на носорогов» (1920) о жизни первобытного племени. В ярких красках воссоздает автор экзотические образы дикарей-охотников, их полное опасностей существование, первые шаги по осознанию себя и окружающего мира.
11. Гумилев и революция.
Октябрьская революция застала Гумилева за границей, куда он был командирован в мае 1917 года военным ведомством. Он жил в Париже и Лондоне, занимался переводами восточных поэтов. В мае 1918 года он вернулся в революционный Петроград и, несмотря на семейные неурядицы (развод с А. Ахматовой), нужду и голод, работает вместе с Горьким, Блоком, К. Чуковским в издательстве «Всемирная литература», читает лекции в литературных студиях.
В эти годы (1918-1921) выходят три последних прижизненных сборника поэта: «Костер» (1918), «Шатер» (1920) и «Огненный столп» (1921). Они свидетельствовали о дальнейшей эволюции творчества Гумилева, его стремлении постигать жизнь в ее разнообразных проявлениях. Его волнует тема любви («О тебе», «Сон», «Эзбекие»), отечественная культура и история («Андрей Рублев»), родная природа («Ледоход», «Лес», «Осень»), быт («Русская усадьба»).
Гумилеву-поэту мила не новая «кричащая Россия», а прежняя, дореволюционная, где «человечья жизнь настоящая», а на базаре «проповедуют слово Божие» («Городок»), Лирическому герою этих стихотворений дорога тихая, размеренная жизнь людей, в которой нет войн и революций, где
Крест над церковью вознесен
Символ власти ясной, отеческой.
И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.
(«Городов»).
Есть в этих строках с их невыразимой тоской по утраченной России что-то от Бунина, Шмелева, Рахманинова и Левитана. В «Костре» впервые у Гумилева появляется образ простого человека, русского мужика с его
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной,-
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
(«Мулов»).
12. Библейские мотивы в лирике Гумилева.
Название сборника «Огненный столп» взято из Ветхого Завета. Обратившись к основам бытия, поэт насытил многие свои произведения библейскими мотивами. Особенно много он пишет о смысле человеческого существования. Размышляя о земном пути человека, о вечных ценностях, о душе, о смерти и бессмертии, Гумилев много внимания уделяет проблемам художественного творчества. Творчество для него - это жертва, самоочищение, восхождение на Голгофу, божественный акт высшего проявления человеческого «я»:
Истинное творчество, утверждает Гумилев, следуя традициям святоотеческой литературы, всегда от Бога, результат взаимодействия божественной благодати и свободной воли человека, даже если сам автор не осознает этого. Дарованный свыше «как некий благостный завет» поэтический талант - это обязанность честного и жертвенного служения людям:
И символ горнего величья.
Как некий благостный завет
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.
Эта же мысль звучит и в сихотворении «Шестое чувство»:
Так, век за веком - скоро ль. Господь?
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогая плоть.
Рождая орган для шестого чувства.
В последних сборниках Гумилев вырос в большого и взыскательного художника. Работу над содержанием и формой произведений Гумилев считал первейшим делом каждого поэта. Недаром одна из его статей, посвященных проблемам художественного творчества, носит название «Анатомия стихотворения».
В стихотворении «Память» Гумилев следующим образом определяет смысл своей жизни и творческой деятельности:
Я угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле
Я возревновал о славе отчей,
Как на небесах и на земле.
Сердце будет пламенем томимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
Не уставая напоминать своим читателям библейскую истину о том, что «вначале было Слово», Гумилев своими стихотворениями поет Слову величественный гимн. Были времена, утверждает поэт, когда «солнце останавливали словом//Словом разрушали города». Он возвышает Слово - Логос над «низкой жизнью», преклоняет перед ним колени как Мастер, всегда готовый к творческой учебе у классиков, к послушанию и подвигу.
Эстетический и духовный ориентир Гумилева - пушкинское творчество с его ясностью, точностью, глубиной и гармоничностью художественного образа. Это особенно заметно в его последних сборниках, с подлинно философской глубиной отражающих пеструю и сложную динамику бытия. В вошедшем в сборник «Огненный столп» стихотворении-завещании «Моим читателям» (1921) Гумилев полон желания спокойно и мудро:
…Сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,-
Всю родную, странную землю
И, предстоя перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами.
Ждать спокойно Его суда.
Вместе с тем в ряде стихотворений сборника «Огненный столп» радость приятия жизни, влюбленность в красоту Божьего мира перемежается с тревожными предчувствиями, связанными с общественной ситуацией в стране и с собственной судьбою.
Как и многие другие выдающиеся русские поэты, Гумилев был наделен даром предвидения своей судьбы. Глубоко потрясает его стихотворение «Рабочий», герой которого отливает пулю, что принесет поэту смерть:
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной.
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой,
Невысокий старый человек.
В последние месяцы жизни Гумилева не покидало ощущение близкой гибели. Об этом пишет в своих воспоминаниях И. Одоевцева, воспроизводя эпизоды посещения ими осенью 1920 года Знаменской церкви в Петрограде и последующей беседы на квартире поэта за чашкой чая: «Иногда мне кажется,- говорит он медленно,- что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру».
Этот разговор произошел 15 октября 1920 года. А в январе следующего года в первом номере журнала «Дом искусства» было опубликовано стихотворение Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», в котором он иносказательно изображает революционную Россию в виде трамвая, несущегося в безвестность и все сметающего на своем пути.
«Заблудившийся трамвай» - одно из самых загадочных стихотворений, до сих пор не получившее убедительного истолкования. По-своему глубоко и оригинально с позиции христианской эсхатологии поэт разрабатывает здесь вечную тему мирового искусства - тему смерти и бессмертия.
В стихотворении воссоздано то состояние, когда человек, согласно христианскому вероучению, находится между физической смертью и воскресением души. Смерть у Гумилева - конец земного пути и одновременно начало новой, загробной жизни. В стихотворении ее олицетворяет вагоновожатый, который увозит лирического героя из земной жизни на странном, фантастическом катафалке - трамвае, обладающем способностью передвигаться по земле и по воздуху, в пространстве и во времени. Образ трамвая романтизируется, обретает черты космического тела, с колоссальной скоростью несущегося в бесконечное пространство. Это символ судьбы поэта в ее земном и трансцедентальном измерениях.
Для изображения перемещения в загробный мир автор использует традиционный для религиозной литературы мотив путешествия. Время в стихотворении разомкнуто в вечность, соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее.
В произведении запечатлено множество биографических подробностей жизни лирического героя, дан ретроспективный обзор важнейших событий его жизни, показаны трансфизические странствия его духа. Все они представлены в аллегорическом и ирреальном освещении. Так, мосты через Неву, Нил, Сену, через которые переносится трамвай, вызывают ассоциации с мостом, ведущим, согласно народным верованиям, в потусторонний мир, а сами реки можно рассматривать как аналог реки забвения, которую душе умершего необходимо преодолеть в загробном путешествии.
Путь в Царство Духа, куда стремится душа лирического героя, осложнен блужданиями и метаниями во временных измерениях. Посмертная судьба лирического героя как бы запрограммирована земною жизнью, и заблудившийся «в бездне времен» трамвай, на новом, метафизическом витке как бы повторяет прижизненные блуждания поэта. Совершая напряженную духовную работу по переоценке прожитой земной жизни, лирический герой надеется на жизнь вечную и бесконечную, на обретение царствия Божия, «Индии Духа». Православная панихида в Исаакиевском соборе - важный к тому шаг.
Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине.
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
13. Арест и расстрел Гумилева.
Панихида уже близилась. В этом же, 1921 году, по инициативе Зиновьева Петроградская ЧК инспирировала так называемое «дело Таганцева», названное по фамилии его организатора, профессора В. Н. Таганцева, который вместе со своими единомышленниками будто бы замышлял контрреволюционный переворот. Возглавивший дело следователь ВЧК Я. Агранов привлек к уголовной ответственности более 200 человек, среди которых были известные ученые, писатели, художники и общественные деятели.
Третьего августа был арестован и Н. Гумилев, незадолго до этого избранный председателем Петроградского союза поэтов. Гумилеву вменялось в вину то, Что когда один из его старых знакомых предложил ему вступить в эту организацию, он отказался, но не донес об этом предложении властям.
Сделать ему это не позволил кодекс чести, а также гражданская позиция: по свидетельству хорошо знавшего его писателя А. Амфитеатрова, Н. Гумилев «был монархист - крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедших уже под советским страхом, он не усомнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога «Махди» и -
Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя.
На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом». 24 августа Петроградская ЧК приговорила к расстрелу 61 человека, в том числе и Н. Гумилева. Поэт был расстрелян 25 августа 1921 года на одной из станций Ириновской железной дороги под Ленинградом.
Как пишет в своих «Камешках на ладонях» В. Солоухин: «Художник Юрий Павлович Анненков свидетельствует, что Гумилев, офицер, дважды георгиевский кавалер, блестящий поэт, на расстреле улыбался.
Из других источников известно, что Зиновьев на расстреле ползал по полу и слюнявым ртом лизал сапоги чекистам. И эта тварь и мразь убила русского рыцаря Гумилева!».
Жизнь Николая Гумилева оборвалась в 35 лет, в самом расцвете его незаурядного таланта. Сколько прекрасных произведений могли бы еще выйти из-под его талантливого пера!
Н. С. Гумилева можно с полным на то основанием назвать одним из поэтов русского духовного и национального возрождения. Как исполненное оптимизма пророчество звучат строки его стихотворения «Солнце духа»:
Чувствую, что скоро осень будет.
Солнечные кончатся труды,
И от дрена духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.
Этой уверенностью дышит все творчество замечательного поэта, которое завоевывает все большую известность. По справедливому утверждению Г. Адамовича, «имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает «рядовой читатель» и приучается любить эти стихи - мужественные, умные, стройные, благородные - в лучшем смысле слова».
5 / 5. 2
Николай Степанович Гумилев (1886-1921) родился в Кронштадте. Отец - морской врач. Детство провел в Царском Селе, в гимназии учился в Петербурге и Тифлисе. Стихи писал с 12 лет, первое печатное выступление в 16 лет - стихотворение в газете «Тифлисский листок».
Осенью 1903 семья возвращается в Царское Село, и Гумилев заканчивает там гимназию, директором которой был Ин. Анненский (учился плохо, выпускные экзамены сдал в 20 лет). Переломный момент - знакомство с философией Ф. Ницше и стихами символистов.
В 1903 познакомился с гимназисткой А. Горенко (будущей Анной Ахматовой). В 1905 в издании автора выходит первый сборник стихов - «Путь конквистадоров», наивная книга ранних опытов, которой, тем не менее, уже найдена собственная энергичная интонация и появился образ лирического героя, мужественного, одинокого завоевателя.
В 1906, после окончания гимназии, Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции в Сорбонне и заводит знакомства в литературно-художественной среде. Предпринимает попытку издания журнала «Сириус», в трех вышедших номерах которого печатается под собственной фамилией и под псевдонимом Анатолий Грант. Посылает корреспонденции в журнал «Весы», газеты «Русь» и «Раннее утро». В Париже, и тоже в издании автора, вышел второй сборник стихов Гумилева - «Романтические стихи» (1908), посвященный А. А. Горенко.
С этой книги начинается период зрелого творчества Н. Гумилева. В. Брюсов, похваливший - авансом - первую его книгу, с удовлетворением констатирует, что не ошибся в своих прогнозах: теперь стихи «красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме». Весной 1908 года Гумилев возвращается в Россию, сводит знакомство с петербургским литературным светом (Вячеслав Иванов), выступает постоянным критиком в газете «Речь» (позже начинает печатать в этом издании также стихи и рассказы).
Осенью совершает свою первую поездку на Восток - в Египет. Поступает на юридический факультет столичного университета, вскоре переводится на историко-филологический. В 1909 принимает деятельное участие в организации нового издания - журнала «Аполлон», в котором в дальнейшем, до 1917 года, печатал стихи и переводы и вел постоянную рубрику «Письма о русской поэзии».
Собранные в отдельную книгу (Пг., 1923) рецензии Гумилева дают яркое представление о литературном процессе 1910-х годов. В конце 1909 года Гумилев на несколько месяцев уезжает в Абиссинию, а вернувшись, издает новую книгу - .
25 апреля 1910 Николай Гумилев венчается с Анной Горенко (разрыв их отношений произошел в 1914 году). Осенью 1911 создается «Цех поэтов», манифестировавший свою автономию от символизма и создание собственной эстетической программы (статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», напечатанная в 1913 в «Аполлоне»). Первым акмеистическим произведением считали в Цехе поэтов поэму Гумилева (1911), вошедшую в его сборник (1912). В это время за Гумилевым прочно укрепилась репутация «мастера», «синдика» (руководителя) Цеха поэтов, одного из самых значительных современных поэтов.
Весной 1913 в качестве начальника экспедиции от Академии Наук Гумилев уезжает на полгода в Африку (для пополнения коллекции этнографического музея), ведет путевой дневник (отрывки из «Африканского дневника» публиковались в 1916, более полный текст увидел свет в недавнее время).
В начале Первой мировой войны Н. Гумилев, человек действия, поступает добровольцем в уланский полк и заслуживает за храбрость два Георгиевских креста. В «Биржевых ведомостях» в 1915 публикуются его «Записки кавалериста».
В конце 1915 выходит сборник , в журналах печатаются его драматургические произведения - «Дитя Аллаха» (в «Аполлоне») и «Гондла» (в «Русской мысли»). Патриотический порыв и упоенность опасностью скоро проходят, и он пишет в частном письме: «Искусство для меня дороже и войны, и Африки».
Гумилев переходит в гусарский полк и добивается отправки в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт, но по пути задерживается в Париже и Лондоне до весны 1918. К этому периоду относится цикл его любовных стихов, составивший вышедшую посмертно книжку «Кенией звезде» (Берлин, 1923).
В 1918 по возвращении в Россию Гумилев интенсивно работает как переводчик, готовя для издательства «Всемирная литература» эпос о Гильгамеше, стихи французских и английских поэтов. Пишет несколько пьес, издает книги стихов