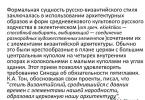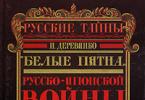Авантюра «главкома» Сорокина
В ночь на 6 августа отряды казаков и осетин напали на Владикавказ и захватили часть города. Большевики пытались организовать его оборону, но не смогли и бежали в Назрань. Там, собрав ингушей, они бросили клич идти походом на Владикавказ, обещая земли и имущество осетин и казаков. На призыв откликнулось до тысячи ингушей. Они захватили город и учинили в нем резню.
В это же время Грозненский городской совет потребовал от казаков станицы Грозненской сдать оружие. Казаки, объединив под командованием Григория Бечерахова отряды общей численностью до 15 тысяч человек, решили овладеть Грозным. 11 августа начались бои на подступах к городу, которые продолжались более двух месяцев. Не решаясь на штурм, казаки подвергли Грозный артиллерийскому обстрелу. Только в первый день осады по нему было выпущено 1800 снарядов, а через неделю город превратился в руины.
Большевики выдержали осаду путем введения чрезвычайных мер. Руководитель терских большевиков С.М. Киров докладывал в Москву: «Грозный представляет осажденный лагерь. Все мужское население мобилизовано и находится на учете. Выехать из города можно только с разрешения военно-революционного комитета. Все мирное население имеет натуральную повинность по обороне города».
Сергей Миронович Киров, руководитель установления Советской власти на Кавказе в годы Гражданской войны
29 октября подошедшие части Красной Армии освободили город и отбросили казаков за Терек. Было освобождено также и несколько других населенных пунктов. Большевики учинили жестокую расправу над всеми, кого подозревали в связях с «бандитами». В огне этих репрессий погибло также и большое количество нив чем не повинных людей.
Также неудачно для белоказаков завершилась и попытка овладеть Кизляром, осуществлявшаяся под руководством Льва Бечерахова. К концу октября на Тереке была установлена советская власть. Правда, там она продержалась недолго. С Кубани на Терскую область уже наступали войска Добровольческой армии, разгромившие противостоявшие им части Северо-Кавказской армии «красных».
В ноябре 1918 года полки 3-го армейского корпуса, состоявшие главным образом из кубанских казаков, вошли в Осетию и Ингушетию. Командиром корпуса генералом В.П. Ляховым горцам было выдвинуто требование «выдать большевиков, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы», но они не спешили изъявить покорность командованию Добровольческой армии.
Но в это время на Кубани начались брожения в рядах остатков советских войск, инициатором которых стал командующий Северо-Кавказской советской армией И.Л. Сорокин, попытавшийся захватить власть на юге России. Условия для этого определенные имелись.
Еще в апреле 1918 года по решению большевиков на Кубани была создана Кубанская Советская Республика, в «правительство» которой вошли представители различных партий революционного уклона. Юго-Восточная армия стала называться войсками Кубанской Советской Республики. Общее командование этими войсками принял А.И. Автономов, а И.Л. Сорокин был назначен его помощником. Войскам Кубанской Советской Республики удалось отстоять Екатеринодар, и белые начали поспешное отступление на север.
Армия белых отступала, слабо преследуемая отрядами под общей командой И.Л. Сорокина. Вопреки здравому смыслу это преследование, вначале имевшее большой успех, по решению Ивана Лукича было прекращено. Войска вернулись в Екатеринодар. Туда по приказу Сорокина был доставлен труп генерала Корнилова. Для демонстрации он был выставлен на центральной площади города. Мимо него парадным строем прошли революционные войска, после чего тело Лавра Георгиевича был всенародно сожжено, а пепел развеян по ветру.
В это самое время против красных восстал Дон, кубанский атаман полковник А.П. Филиппов также начал мобилизацию казаков, вступив в переговоры о союзе с командованием Добровольческой армии. Немецкие войска высадились в Ростове-на-Дону. Обстановка на Северном Кавказе продолжала накаляться.
В мае между командующим А.И. Автономовым и советским руководством Кубани возник конфликт. Вмешательство членов Чрезвычайного штаба обороны и ЦИК Кубано-Черноморской Республики в управление войсками вызвало гнев командующего и его помощника. 20 мая Автономов приказал командиру одного из полков, расположенного в Екатеринодаре, арестовать членов Чрезвычайного штаба обороны. Об этом стало известно в Царицыне, и чрезвычайный комиссар Юга России Е.К. Орджоникидзе телеграммой потребовал от Автономова безусловного подчинения решениям ЦИК. Затем, прибыв лично в Екатеринодар, в конце мая отстранил А.И. Автономова от командования войсками.
И.Л. Сорокину каким-то образом удалось уйти от наказания за поддержку действий Автономова на Кубани в мае 1918 года. Известно, что в июне - июле он командовал Ростовским боевым участком, который разрушился под напором германских войск. 2 мая немцы заняли Таганрог, 8 мая их войска вошли в Ростов-на-Дону, 30 мая - в Батайск. В июле 1918 года в составе РСФСР была образована Северо-Кавказская Советская Республика, столицей которой стал город Екатеринодар.
Генерал А.И. Деникин, пополнив Добровольческую армию в Ростове и Новочеркасске, в конце июня 1918 года предпринял так называемый Второй кубанский поход, завершившийся разгромом войск Северо-Кавказской Советской Республики и захватом западной части Северного Кавказа. После этого авторитет Добровольческой армии серьезно вырос, к мнению Деникина начал прислушиваться донской атаман П.Н. Краснов, войска которого приступили к совместным операциям с войсками Добровольческой армии.
Но спокойствия в зоне действия белых войск не было. Характеризуя это положение, бывший генерал Добровольческой армии Я.А. Слащев писал: «Союзники давали деньги, рассчитывая возместить свои расходы со временем русским углем и нефтью. Началась разбойничья политика крупного капитала. Появились старые помещики, потянувшие за собой старых губернаторов. Интересы мелкой русской буржуазии, создавшей Добровольческую армию, стали как бы попираться интересами крупного международного капитала… Даже мелкобуржуазные массы почувствовали гнет и частью отхлынули от белых. Пролетариат поднял голову, начались восстания. Создались внутренние фронты…».
В начале июля 1918 года войска Кубанско-Черноморской Советской Республики начали официально называться Красной Армией Северного Кавказа. Главнокомандующим этими силами в то время был К.И. Калнин - токарь Путиловского завода, не имевший никакого военного опыта. Его войска несли одно поражение за другим, и были отрезаны от Царицына и восточной части Северного Кавказа.
Назревает конфликт между главнокомандующим и его заместителем: Калнин считал фронт против немцев главным, а фронт против Добровольческой армии - второстепенным, у И.Л. Сорокина было другое мнение. Его мало интересовали события, происходившие в районе Ростова-на-Дону, зато очень волновали дела на самой Кубани. Поэтому он всячески уклонялся от выполнения приказов Калнина о переброске войск из-под Батайска на другие участки. Белые заняли Ставрополь, а 27 июля их войска вошли в Армавир. С севера на Екатеринодар наступали Кубанская казачья дивизия генерала Покровского и 1-я конная дивизия генерала Эрдели. Но в начале августа 1918 года наступление белых удалось остановить.
Сорокин переоценил достигнутые частные успехи и доложил в ЦИК Северо-Кавказской Республики о них, как полном разгроме Добровольческой армии Деникина. В результате на заседании ЦИК Северо-Кавсказской Республики 3 августа 1918 года главнокомандующим Красной Армией Северного Кавказа назначается И.Л. Сорокин.
Иван Лукич сразу же проводит в жизнь ряд мероприятий, направленных на повышение боеспособности вверенных ему войск. Начинается насильственная мобилизация местного населения, реквизиции лошадей и другого имущества. На штабные и ряд командных должностей назначаются бывшие офицеры царской армии. Параллельно с этим создаются особые отряды из анархистов и бывших уголовников, подчиненные непосредственно командующему.
Был разработан смелый план защиты Екатеринодара, рассчитанный главным образом на революционные настроения казаков. И.Л. Сорокин лично выступает на митингах в казачьих частях, обещая всяческие льготы этому сословию. Под видом борьбы с «врагами революции» вся зажиточная часть города была подвергнута разграблению. Были вскрыты винные склады и многочисленные винные магазины. Пьяные толпы вооруженных сорокинцев громили богатые дома, убивали их хозяев, насиловали женщин, уносили все ценное имущество. Об организации обороны Екатеринодара никто не помышлял.
Сам Иван Лукич разместил свой штаб в лучшем здании города, окружив его преданными ему отрядами казаков. Он каждый день выезжал на улицы Екатеринодара на прекрасном белом коне в окружении многочисленной свиты, в сопровождении большого конвоя. Народ видел перед собой не красного главнокомандующего, а наместника Кавказа, которым Сорокин пытался себя представить. Он вникал в вопросы не только военные, но и гражданской администрации города и, не имея опыта и возможностей для их решения, тут же находил виновных среди местных чиновников, которых ждали быстрый суд и публичная расправа. Благодаря этим мерам личный авторитет Сорокина среди части местного населения постоянно рос. Складывался миф «народного героя», в котором Иван Лукич играл ведущую роль.
Но противник оказывается достаточно сильным. Его войска продолжают наступление, и 17 августа передовые части Добровольческой армии вступают в Екатеринодар, оборона которого практически не велась.
Таким образом, для удержания столицы Кубани должных усилий Сорокиным приложено не было несмотря на то, что советские войска превосходили по численности войска противника. Оказалось, что часть войск отказалась выполнять приказы Сорокина, вышла из его подчинения и стихийно начала отступать.
В конце августа Сорокин из района Армавира с самолетом направил в Астрахань для доклада Военному совету Северо-Кавказского военного округа в Царицыне донесение с оценкой положения Красной Армии Северного Кавказа. 3 сентября это донесение было представлено И В. Сталину и К.Е. Ворошилову. В донесении Сорокин слезно просил пополнения запасов боеприпасов, но Сталин решил направить их не на Северный Кавказ, а под Царицын. При этом Сталин 26 июля посылает телеграмму в Москву, в которой пишет: «Положение всей кубанской армии отчаянно неприглядно, армия осталась без необходимых предметов вооружения, она отрезана и гонят ее к морю».
В конце августа белые начали наступление на Армавир. Часть советских войск под командованием Д.П. Жлобы, оборонявшие этот участок, пользуясь отсутствием командира, вышла из повиновения и начала творить бесчинства. Они потребовали крупных денежных средств, угрожая расправой комиссарам. Получив отказ, приняли решение оставить позиции.
Узнав об этих бесчинствах, И.Л. Сорокин приказал арестовать и расстрелять главного зачинщика. Но командиры этой группировки под предлогом недоверия главнокомандующему, приняли решение оставить Северный Кавказ и увести войска в Царицын, где с 10 июля находился и сам Жлоба. Воспользовавшись этим, белые перешли в наступление и заняли Армавир.
В конце августа в Невинномысск, где находился штаб И.Л. Сорокина, прибыл из Царицына Жлоба с приказом немедленно двигаться к Царицыну. Из этого приказа не были ясны причины отхода Красной Армии Северного Кавказа к Царицыну, о них ничего не знали ни Чрезвычайный комиссар Юга России Г.К. Орджоникидзе, ни в Москве. Это создавало очень сложное положение для войск Красной Армии Северного Кавказа.
Началась неразбериха. Главнокомандующий пытался наладить управление войсками, но у него ничего не получалось. Д.П. Жлоба отказался выполнять его приказы и, погрузив войска в эшелоны, и 10 сентября направился в Царицын. Сорокин разослал телеграммы о задержании и разоружении войск Жлобы, но его распоряжения остались только на бумаге, так как не было сил для их выполнения.
Командование Южного фронта тут же направило в штаб Сорокина ряд директив относительно планов дальнейших действий, начало требовать постоянных донесений по многим вопросам. При этом одни приказы зачастую перечили другим. Так, если приказ от 22 августа требовал отвода войск к Царицыну, то приказ от 24 сентября предписывал любой ценой удерживать Северный Кавказ.
Красная Армия Северного Кавказа отступала, не имея определенного плана ведения боевых действий. С боями она отошла на восток, и в сентябре соединились с войсками Таманской армии, которая незадолго до этого в августе - сентябре 1918 года совершила героический переход из побережья Черного моря в район Армавира, описанный в романе А.С. Серафимовича «Железный поток». Ее войска, насчитывавшие около 100 тысяч человек при 185 орудиях, заняли рубеж по рекам Лаба, Кубань, Невинномыск, ведя бои с войсками Добровольческой армии и тем самым оказывая помощь красным войскам, оборонявшим Царицын.
В начале октября приказом командующего Южным фронтом все подчиненные ему войска были сведены в пять армий. Командующими армиями назначаются К.Е. Ворошилов, Сорокин и Автономов. Председателем Реввоенсовета фронта назначается Сталин, а Ворошилов занимает сразу две ответственные должности: кроме командующего армией он занимает должность помощника командующего и члена Реввоенсовета фронта.
События под Царицыном развиваются в пользу советского командования. Мятежная дивизия Жлобы нанесла удар с тылу по белым войскам и вынудила их отойти от Царицына. По настоянию Сталина Жлоба получил от Реввоенсовета республики именной портсигар.
И.Л. Сорокин лишился высокого титула главнокомандующего Красной Армией Северного Кавказа и был назначен командующим 11-й армии, действующей на Кубани. Ивану Лукичу это очень не понравилось. К тому времени он привык считать себя единовластным хозяином всего Северного Кавказа, и не желал подчиняться приказам командующего фронтом П.П. Сытина и членов его Реввоенсовета. Он продолжал рассылать директивы ранее подчинявшимся ему командующим и требовал выполнения их вопреки директивам командования Южного фронта. Это приводили к конфликтам, при разрешении которых Иван Лукич действовал крайне жестко.
Так, в начале октября 1918 года с небольшой группой сторонников он прибыл в Ставрополь, где в то время размещался штаб Таманской армии и потребовал от ее командования беспрекословного выполнения его приказов. Командующий Таманской армией И.И. Матвеев ответил, что выполняет директивы командования Южного фронта. Сорокин был взбешен таким ответом, обвинил Матвеева в измене и добился от Реввоенсовета приказа о его расстреле. После этого, переформировав войска армии, Сорокин начал штурм Ставрополя. 27 октября город был взят красными. Иван Лукич в этот город въехал со своим штабом, как триумфатор. Начались обычные для того времени аресты и расстрелы, конфискация имущества, грабежи, насилия, пьянки.
В октябре обострились разногласия между И.Л. Сорокиным и его штабом с одной стороны и Реввоенсоветом 11-й армии и ЦИК Северо-Кавказской Республики с другой. Противники командующего докладывали, что Иван Лукич и его штаб настолько разложены, что не занимаются планированием и управлением боевых действий. В ответ на это на совещании командного состава, происходившем в Пятигорске 15 октября, Сорокин прямо заявил, что ЦИК и Реввоенсовет ему мешают выполнять обязанности командующего. На этом же совещании возмущенный секретарь крайкома партии М.И. Крайний (Шнейдерман) написал записку председателю Северо-Кавказской ЧК М.П. Власову, которая заканчивалась словами: «…на днях должен решиться вопрос, или эта сволочь, или мы». Но эта записка, небрежно брошенная Власову, попала в руки Сорокину.
21 октября 1918 года Сорокин приказал оцепить отель «Бристоль», где размещался ЦИК Северо-Кавказской Республики и арестовать ряд руководящих работников ЦИК, председателя фронтовой ЧК и тут же расстрелять их. Адъютант командующего выполнил этот приказ: арестованные были доставлены к горе Машук и расстреляны. Несколько дней спустя был выслежен, арестован и расстрелян М.П. Власов.
Чтобы как-то объяснить свои действия, Сорокин обвинил всех расстрелянных в связях с белогвардейцами и даже 22 октября выпустил по этому случаю специальную листовку. Более того, для подтверждения этих обвинений были арестованы секретарь ЦИК Миньков и младший брат Крайнего, которые, дав нужные показания, также были расстреляны.
Только после этого в Москве разглядели диктаторские замашки красного главкома, который был объявлен врагом революции. 27 октября II чрезвычайный съезд Советов Северо-Кавказской Республики объявил Сорокина вне закона. Он был арестован и должен был предстать перед судом. Но большевиками некогда было соблюдать законность. 1 ноября 1918 года в здание, где находился бывший командующий, прибыл заместитель командира полка 1-й Таманской пехотной дивизии И. Высленко. Войдя в комнату, где происходил допрос, он спросил: «Кто будет Сорокин?» Убедившись, что перед ним именно тот, кто нужен, Высленко выстрелил в него в упор и убил.
Так закончилась история мятежа Сорокина на Кубани. Правда, после расследования, по поводу произошедшего Г.К. Орджоникидзе в июле 1919 года докладывал Совнаркому РСФСР следующее: «После взятия Прохладной мы узнали о состоянии XI армии и о тех делах, которые произошли в Пятигорске, о расстреле наших лучших товарищей Сорокиным, о расстреле Сорокина в Ставрополе. Здесь я считаю своим долгом заявить, что несмотря на всю необузданность Сорокина, несмотря на его преступление, совершенное по отношению к нашим товарищам, с контрреволюцией он никаких связей не имел. Сорокинская история создалась на почве отступления Кубанской армии и недоверия между Сорокиным и руководителями Кубанской Советской власти».
Командование 11-й армией принял И.Ф. Федько. Но это объединение не могло устоять под напорами деникинских войск с севера. Советская власть, продержавшись на Северном Кавказе почти 11 месяцев, уступала свои позиции более организованным силам.
ОТРЯД КАПИТАНА 2-ГО РАНГА А.А. СОРОКИНА В ВОДАХ ПАРТЕНОПЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВЗЯТИЕ НЕАПОЛЯ Ф.Ф. Ушаков направил к восточным берегам Партенопейской республики в Бриндизи для оказания помощи неаполитанскому правительству отряд капитана 2-го ранга А.А. Сорокина (четыре
Из книги Все Кавказские войны России. Самая полная энциклопедия автора Рунов Валентин АлександровичАвантюра Медокса В начале Отечественной войны 1812 года на Кавказе появился конногвардейский поручик Соковнин, который предъявил документ за подписью военного министра, позволявший ему сформировать из кабардинцев и черкесов конный полк для участия в боях с французами.
Из книги Секреты Российского флота. Из архивов ФСБ автора Христофоров Василий СтепановичЭКСПЕДИЦИЯ «ЧЕЛЮСКИНА»: АВАНТЮРА ИЛИ ОПРАВДАННЫЙ РИСК? Арктика всегда как магнитом тянула к себе людей мужественных и одержимых - исследователей, путешественников, первооткрывателей. Десятки экспедиций, российских и зарубежных, бросались на новый и решительный штурм
Из книги Броненосцы типа "Маджестик". 1893-1922 гг. автора Пахомов Николай Анатольевич Из книги Великая война не окончена. Итоги Первой Мировой автора Млечин Леонид МихайловичГенералы против главкома «Лег спать в три часа, – пометил в дневнике Николай II, – так как долго говорил с генералом Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками водворить порядок. Ушли из Могилева в пять часов утра. Погода была морозная, солнечная».Генерал от
Есаул. Главнокомандующий Красной армией Северного Кавказа в 1918 году
И. Л. Сорокин был одним из тех подлинных героев Гражданской войны, которых «выплеснул» на верх тех исторических событий буйный водоворот вооружённого противостояния Красного и Белого движений. Он стал таким самородком из народа в ходе вооружённой борьбы двух полярных классовых сил, как, к примеру, казаки Миронов и Шкуро, Каширин и Семёнов, Подтёлков и Покровский…
Иван Сорокин родился в станице Петропавловской Кубанской области в казачьей семье среднего достатка. С детства отличался решительным характером, который, однако, не помешал ему успешно закончить Екатеринодарскую военно-фельдшерскую школу. Она готовила кадры полковых медицинских работников для Кубанского и Терского казачьих войск.
…Первая мировая война началась для военфельдшера Сорокина в рядах первоочередной 1-й Кубанской пластунской бригады на Кавказском фронте. Там казачья пехота с берегов Кубани, Дона и Терека демонстрировала чудеса героизма, отличившись едва ли не во всех сражениях с турками, которые провела Отдельная Кавказская армия под командованием прославленного полководца старой России генерала от инфантерии Н. Н. Юденича. Это были Сарыкамыш и Ардаган, Эрзерум и Трапезунд, Эрзинджан и Хопа…
Военфельдшер Иван Сорокин воевал «примерно», не раз заменяя в окопах стрелков-пластунов и младших командиров в бою. Он был замечен начальством и отмечен боевыми наградами. Уже на второй год войны, в 1915-м, его отправляют на учёбу во 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков, которую он заканчивает в чине казачьего хорунжего.
Сперва Сорокин проходил службу младшим сотенном офицером в 3-м Линейном казачьем полку. После новых отличий в боях с турками он получает чин есаула и становится командиром сотни 1-го Лабинского казачьего полка 2-й Кавказской казачьей дивизии. Воевать пришлось всё на том же Кавказском фронте…
Энергичный есаул Иван Сорокин не остался в стороны от Октябрьских событий. В начале 1918 года, когда старая русская армия прекратила своё существование, и казаки-фронтовики вернулись в родные станицы и хутора, бывший офицер организует казачий революционный отряд силой в 150 сабель. Свой отряд он привёл к железнодорожной станции Тихорецкой, где влился в состав Юго-Восточной революционной армии, которой командовал бывший казачий хорунжий А. И. Автономов.
Сорокин лихо и успешно командовал своим конным отрядом земляков на Кубани, где с начала 1918 года полыхала Гражданская война. Он умело командовал, умел сказать на митинге призывное слово, принять волевое решение. К Ивану Сорокину тянулись люди, и вскоре в его отряде насчитывалось до четырёх тысяч красных казаков. И не только казаков.
Бывший военный фельдшер становился для белого командования, основу которого составляли спецы императорского Генерального штаба, опасным противником. В апреле 1918 года сорокинский отряд нанёс сильный удар по корниловской Добровольческой армии, которая героически штурмовала город Екатеринодар.
Этот успех был замечен командованием красных войск, и в том же апреле Иван Сорокин становится помощником главнокомандующего войсками Кубано-Черноморской республики (была и такая в годы Гражданской войны в России). Однако вскоре Сорокин стал проявлять открытое неподчинение Автономову, проявляя известную «самостийность». Хотя ради справедливости надо заметить, что оба они имели во многом схожие взгляды на происходящие события.
Но и его прямой начальник допускал то же самое по отношению и к вышестоящим инстанциям. Такова была стихия Гражданской войны. В результате за отказ подчиниться контролю ЦИК и Чрезвычайного штаба Кубано-Черноморской республики по решению 3-го съезда Советов той же республики А. И. Автономов был снят с должности.
После снятия Автономова в мае 1918 года Иван Сорокин довольно успешно командовал сложным Ростовским боевым участком теперь уже против деникинской Добровольческой армии. Затем ему вверяется группа войск на Северном Кавказе.
Красным войскам на российском Юге требовался новый военный вождь: решительный, умеющий побеждать, популярный. 3 августа 1918 года политическим руководством Кубано-Черноморской республики бывший казачий офицер Иван Лукич Сорокин назначается главнокомандующим войсками Северного Кавказа. С 3 октября того же года он становится временно исполняющим обязанности командующего 9-й армией.
Вне всякого сомнения, Сорокин обладал прекрасными организаторскими способностями, личной храбростью, военным опытом, перенесённым им с Кавказского фронта в пламя Гражданской войны. Его личную популярность исследователи под сомнение не ставят. Он выступал за то, чтобы старые военные специалисты служили в рядах Красной армии. Его речи на митингах оказывали «зажигающее действие».
Но… в скором времени главнокомандующий Красной армии Северного Кавказа стал в своих частых публичных выступлениях критиковать местные партийные и советские органы за их открыто враждебную политику по отношению к казачеству. Он говорил о том, что политическое руководство не знает «местной специфики».
В нём рано развилось большое честолюбие, или, говоря иначе, от высокой должности, прав и возможностей закружилась голова. Хотя боевых успехов в конце 1918 года у красных на российском Юге становилось всё меньше и меньше: кубанское казачество в своей массе колыхнулось на сторону Белого движения. Историк-белоэмигрант А. А. Гордеев писал о тех событиях так:
«…Красные под начальством фельдшера Сорокина отступили за Кубань. Вторая часть (Таманская армия. - А. Ш. ) отступила в сторону Новороссийска и дальше на Черноморское побережье, а оттуда передвинулась и сблизилась с частями Сорокина.
На территории Кубани было сосредоточено до 90 000 красных войск при 124 орудиях против 35–40 000 человек добровольцев при 89 орудиях. Станицы всё время переходили из одних рук в другие…»
Сорокин стал стремиться к неограниченной власти. По его приказам производились незаконные реквизиции, аресты и расстрелы. Во второй половине 1918 года он уже открыто противопоставлял себя руководству Кубано-Черноморской республики, которое поддерживало тесную связь с Москвой.
Под предлогом укрепления дисциплины в красных частях он отстраняет от командования Белореченским округом Г. А. Кочергина. Приказывает расстрелять якобы за невыполнение его приказа командующего Таманской армией И. И. Матвеева, человека большой личной популярности среди бойцов.
Сорокинский конфликт с руководством Советской республики в Кубано-Черноморском крае близился к концу. На съезде командного состава Красной армии Северного Кавказа главнокомандующий обвинил политическое руководство республики в плохом снабжении красных войск продовольствием и обмундированием, боеприпасами и денежным довольствием. В том вызревшем конфликте эта речь стала последней каплей.
Сорокина решают снять с поста главнокомандующего. Дело дальше обстояло так. Секретарь Кубано-Черноморского края М. И. Крайний перебросил через стол президиума того съезда краскомов записку председателю ЧК М. П. Власову. В записке говорилось о том, что на днях будет решаться вопрос о снятии Сорокина. В записке говорилось:
«…Или эта сволочь, или мы».
Однако Власов не заметил переброшенной ему записки. Её поднял начальник пятигорского гарнизона Чёрный, который был сторонником главнокомандующего.
На следующий день Сорокину стало известно содержание записки Крайнего. Он собирает Военный совет армии, который принимает обвинительное решение по отношению к руководству Кубано-Черноморского края. Руководители края обвиняются, ни много ни мало, в измене революционному делу и приговариваются к расстрелу.
21 октября 1918 года у подножия горы Машук на окраине Пятигорска были расстреляны председатель ЦИК Кубано-Черноморской республики А. А. Рубин, секретарь крайкома М. И. Крайний, председатель ЧК М. П. Власов, председатель фронтовой ЧК Б. Г. Рожанский.
Дальнейшие события развивались быстро. 27 октября на железнодорожной станции Невинномысской экстренно собрался Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа. Своим решением он объявил главнокомандующего Ивана Сорокина и трёх его заместителей вне закона.
30 октября Сорокин был арестован в Ставрополе, близ которого шли тяжёлые бои. До суда его помещают в городскую тюрьму под надёжную охрану - опасаются попытки освобождения.
1 ноября в камеру врывается с оружием в руках командир 3-го Таманского полка Таманской армии И. Т. Высленко. Он убивает заключённого: тогда считалось, что это была личная месть за убийство командарма таманцев Матвеева.
Ива́н Луки́ч Соро́кин (4 декабря , ст. Петропавловская , Лабинский отдел , Кубанская область , Российская империя - 1 ноября , Ставрополь) - красный военачальник, участник русско-японской , Первой мировой и Гражданской войн. Главнокомандующий Красной армией Северного Кавказа . Командующий 11-й красной армией .
Биография
Участие в Первой мировой войне
 Во время Первой мировой войны служил в 1-м Лабинском полку Кавказского фронта фельдшером .
Во время Первой мировой войны служил в 1-м Лабинском полку Кавказского фронта фельдшером .
Екатеринодар, между тем, после ухода добровольцев переживал тяжело перемену власти, 1-го марта в город вошли войска Сорокина, и начались неслыханные бесчинства, грабежи и расстрелы. Каждый военный начальник, каждый отдельный красногвардеец имел власть над жизнью «кадет и буржуев». Все тюрьмы, казармы, общественные здания были переполнены арестованными, заподозренными «в сочувствии кадетам». В каждой воинской части действовал свой «военно-революционный суд », выносивший смертные приговоры. Военные начальники Красной гвардии не могли или не хотели остановить бесчинства, а гражданская власть в течение всего марта месяца только ещё слагалась.
В июне 1918 года - помощник командующего войсками Кубанской советской республики А. И. Автономова .
В апреле-мае 1918 года поддержал главнокомандующего Северокавказской красной армией А. И. Автономова в его конфликте с гражданской властью Кубано-Черноморской республики . Вскоре после снятия Автономова из-за этого конфликта и назначением на его место К. И. Калнина - 21 июля (4 августа) сменил последнего, после разгрома красных Добровольческой армией под Тихорецкой и Кущевской (см. Второй Кубанский поход), на посту главнокомандующего Красной армии Северного Кавказа.
Приказом штаба СКВО от 24 сентября 1918 года Сорокин был утверждён в должности главнокомандующего войсками Северного Кавказа.
Армия Сорокина составляла 30-40 тыс. бойцов бывшего Кавказского фронта при 80-90 орудиях и 2 бронепоездах, располагалась в районе Кущевка-Сосыка и имела два фронта:
- на север против немцев;
- на северо-восток против Донской и Добровольческой армий .
В октябре 1918 г. - командарм 11-й красной армии.
Борьба за власть и гибель
В конце октября 1918 прорвался наружу конфликт между Сорокиным и РВС Северного Кавказа.
В это время происходил процесс реорганизации Красной армии, укрепления «революционной дисциплины», установления субординации, известный как «борьба с партизанщиной». Многим командирам, в том числе и Сорокину, привыкшим быть самостоятельными в своих действиях и имевших практически ничем не ограниченную власть в контролируемых районах, эти нововведения пришлись не по душе.
РВС Северного Кавказа проводил линию центра на регулярную организацию. В борьбе за ускользающую власть по требованию Сорокина сначала был расстрелян командарм Таманской армии И. И. Матвеев , а 21 октября 1918 г. в Пятигорске Сорокин приказал расстрелять группу руководителей ЦИК Северо-Кавказской советской республики и крайкома РКП(б): председателя ЦИК А. А. Рубина , секретаря крайкома М. И. Крайнего , председателя фронтовой ЧК Б. Рожанского, уполномоченного ЦИК по продовольствию С. А. Дунаевского.
В связи с этим открытым выступлением против советской власти 27 октября 1918 года был собран 2-й Чрезвычайный Съезд советов Северного Кавказа. Съезд сместил Сорокина с поста главнокомандующего и назначил на его место И. Ф. Федько , которому ЦИК было предписано немедленно вступить в свои обязанности . Сорокин был объявлен вне закона. Пытаясь найти поддержку у армии, Сорокин выехал из Пятигорска в сторону Ставрополя, где в это время шли бои.
30 октября 1918 года Сорокин со своим штабом был задержан кавалерийским полком Таманской армии под командованием М. В. Смирнова. «Таманцы», разоружив штаб и личный конвой Сорокина, заключили их вместе с бывшим главнокомандующим в ставропольскую тюрьму.
1 ноября 1918 года командир 3-го Таманского полка 1-й Таманской пехотной дивизии И. Т. Высленко застрелил И. Л. Сорокина во дворе тюрьмы.
В ответ на расстрел руководителей ЦИК с 1 по 3 ноября 1918 года в Пятигорске было казнено более 100 человек (большинство - зарублены шашками): 58 заложников, включая генералов бывшей императорской армии Радко-Дмитриева и Рузского , и 47 осуждённых за различные преступления от фальшивомонетничества до участия в контрреволюционных отрядах и организациях
Отзывы
Командующий Добрармией ген. А. И. Деникин дал высокую оценку действиям Сорокина во время боев за Екатеринодар летом 1918:… весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих - Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника.
Образ в искусстве
В литературе
И. Л. Сорокин является одним из персонажей романа-трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам ».
И. Л. Сорокин фигурирует в этюдах романа Артёма Весёлого «Россия, кровью умытая».
И. Л. Сорокин упоминается в повести Г. Мирошниченко "Юнармия"
В кинематографе
Напишите отзыв о статье "Сорокин, Иван Лукич"
Примечания
Библиография
- Карпов Н. Д. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. - М .: НП ИД «Русская панорама», 2006. - 415 с.: - (Страницы российской истории). ISBN 5-93165-152-7
- Черкасов-Георгиевский В. Генерал П. Н. Врангель - последний рыцарь Российской империи.. - М .: Центрполиграф, 2004. - (Россия забытая и неизвестная).
- Деникин А. И. . - М .: Айрис-пресс, 2006. - ISBN 5-8112-1890-7 .
- Кенез Питер Красная атака, белое сопротивление. 1917-1918/Пер. с англ. К. А. Никифорова. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 287 с - (Россия в переломный момент истории). ISBN 978-5-9524-2748-8
- Ковтюх Е.И. «Железный поток» в военном изложении. - Москва: Государственное военное изд-во, 1935.
- Обертас И. Л. .
- Кисин Сергей. . - М .: Феникс, 2011. - 413 с. - (След в истории). - 2 500 экз. - ISBN 978-5-222-18400-4 .
- Шамбаров В. Е. - М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2007. - (История России. Современный взгляд). ISBN 978-5-926-50354-5
- Пученков А. С. // Новейшая история России. - 2012. - Вып. 3 . - С. 260-274 .
Ссылки. Источники
Отрывок, характеризующий Сорокин, Иван Лукич
На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны – дети, гувернеры и гувернантки. Граф из за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском всё громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, всё более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал a la tortue, [черепаховый,] и кулебяки и до рябчиков он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из за плеча соседа, приговаривая или «дрей мадера», или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер немец старался запомнить вое роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать всё подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, с завернутою в салфетку бутылкой, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.
На мужском конце стола разговор всё более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.
– И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? – сказал Шиншин. – II a deja rabattu le caquet a l"Autriche. Je crains, que cette fois ce ne soit notre tour. [Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.]
Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.
– А затэ м, мы лосты вый государ, – сказал он, выговаривая э вместо е и ъ вместо ь. – Затэм, что импэ ратор это знаэ т. Он в манифэ стэ сказал, что нэ можэ т смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэ зопасност империи, достоинство ее и святост союзов, – сказал он, почему то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела.
И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительные слова манифеста… «и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир – решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению „намерения сего новые усилия“.
– Вот зачэм, мы лосты вый государ, – заключил он, назидательно выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.
– Connaissez vous le proverbe: [Знаете пословицу:] «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», – сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. – Cela nous convient a merveille. [Это нам кстати.] Уж на что Суворова – и того расколотили, a plate couture, [на голову,] а где y нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu, [Спрашиваю я вас,] – беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.
– Мы должны и драться до послэ днэ капли кров, – сказал полковник, ударяя по столу, – и умэ р р рэ т за своэ го импэ ратора, и тогда всэ й будэ т хорошо. А рассуждать как мо о ожно (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как мо о ожно менше, – докончил он, опять обращаясь к графу. – Так старые гусары судим, вот и всё. А вы как судитэ, молодой человек и молодой гусар? – прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.
– Совершенно с вами согласен, – отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, – я убежден, что русские должны умирать или побеждать, – сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.
– C"est bien beau ce que vous venez de dire, [Прекрасно! прекрасно то, что вы сказали,] – сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.
– Вот это славно, – сказал он.
– Настоящэ й гусар, молодой человэк, – крикнул полковник, ударив опять по столу.
– О чем вы там шумите? – вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. – Что ты по столу стучишь? – обратилась она к гусару, – на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы перед тобой?
– Я правду говору, – улыбаясь сказал гусар.
– Всё о войне, – через стол прокричал граф. – Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.
– А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На всё воля Божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, – прозвучал без всякого усилия, с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
– Это так.
И разговор опять сосредоточился – дамский на своем конце стола, мужской на своем.
– А вот не спросишь, – говорил маленький брат Наташе, – а вот не спросишь!
– Спрошу, – отвечала Наташа.
Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери:
– Мама! – прозвучал по всему столу ее детски грудной голос.
– Что тебе? – спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
Разговор притих.
– Мама! какое пирожное будет? – еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
– Казак, – проговорила она с угрозой.
Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
– Вот я тебя! – сказала графиня.
– Мама! что пирожное будет? – закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.
Соня и толстый Петя прятались от смеха.
– Вот и спросила, – прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
– Мороженое, только тебе не дадут, – сказала Марья Дмитриевна.
Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.
– Марья Дмитриевна? какое мороженое! Я сливочное не люблю.
– Морковное.
– Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? – почти кричала она. – Я хочу знать!
Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.
Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.
Раздвинули бостонные столы, составили партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.
Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.
– Что будем петь? – спросила она.
– «Ключ», – отвечал Николай.
– Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, – сказала Наташа. – А где же Соня?
Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.
Вбежав в Сонину комнату и не найдя там свою подругу, Наташа пробежала в детскую – и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.
– Соня! что ты?… Что, что с тобой? У у у!…
И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.
– Николенька едет через неделю, его… бумага… вышла… он сам мне сказал… Да я бы всё не плакала… (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) я бы всё не плакала, но ты не можешь… никто не может понять… какая у него душа.
И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.
– Тебе хорошо… я не завидую… я тебя люблю, и Бориса тоже, – говорила она, собравшись немного с силами, – он милый… для вас нет препятствий. А Николай мне cousin… надобно… сам митрополит… и то нельзя. И потом, ежели маменьке… (Соня графиню и считала и называла матерью), она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право… вот ей Богу… (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна… За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем…
Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.
– Соня! – сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. – Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?
– Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что и покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день… Наташа! За что?…
И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.
– Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший, – говорила Наташа… – Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. – И она целовала ее, смеясь. – Вера злая, Бог с ней! А всё будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.
Все-таки очень любопытна тема "атаманщины", особенно в плане типажей. Характерно, что тогда каждый партизанский батька считал должным заиметь свой собственный конвой - для красоты, для авторитета, да еще чтобы и в бой эффектно бросаться.
Сорокин ехал верхом, как всегда, в окружении адъютантов и конвой сотни, состоящей из адыгейцев и конных сотен Крестьянского полка.
Он начал часто устраивать военные парады и неизменно являлся на них с красной лентой через плечо, которая от имени войск была подарена ему Президиумом ЦИК за взятие Екатеринодара.
Н.Карпов. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. М., Русская панорама, 2006. С.296, 204
Со стороны же было замечено, что Сорокин как-то переживает за разлад с ЦИК. Он, гвооря современным языком, умел "держать удар" и вести себя гордо в любой обстановке. Объезжая войска, он гарцевал на красивом чистокровном рыжем скакуне, одевался хоть и скромно, но кинжал и сабля у него были с серебряной инструктацией. Под стать ему был и его штаб, все старались подражать Сорокину и в одежде, и в в поведении в бою. (С.204)
Однако с прибытием революционно настроенных фронтовиков местные казаки приняли решение создать ревком, а его председателем избрали Ивана Сорокина. Он не стал менять одежду, ходил по прежнему в военной форме, со знаками боевого отличия, не расставался с маузером (С.148)
На фотографиях сорокин выделялся среди своего окружения не одеждой и не оружием: казачьи красные командиры, особенно казачьи, всегда были щеголями. Тут главком терялся. одно отличие: алая муаровая лента через плечо за победу над Корниловым - от ЦИК Кубанской республики и Екатеринодарского обкома РКП(б) (...) Вот и все отлчия, полученные Сорокиным, если не считать пятнадцати ранений в десятке боев, схваток, операций, побед и поражений... Никакой "роскошной внешности" и "восточного великолепия". Обычная серая черкеска и черный бешмет - повседневная одежда кубанского казака в строю. Папаху носил обычного черного курпея, не каракулевую даже. И в газах, вместо газырей, - всегда винтовочные патроны пулями вниз. Оружие в серебре. У джигитов-казахов, у того же Кочубея хотя бы, оно побогаче было (С.266). В помещении штаба армии собралось уже много людей. Одеты кто как: в черкесках, кожанках, пальто, морских бушлатах. Некоторые с повязками. Возле распахнутого окна Мироненко увидел Абраменко, Воронова, Шеребкина. В дальнем углу беседовала группа незнакомых ему командиров. Говорили громко, перебивая друг друга. Над головами клубился табачный дым. У всех было приподнятое настроение. Автоновом не появился. Совещание открыл Сорокин. Одетый в черную черкеску с узорчатым поясом, в кубанке из черного курпея, он выглядел парадно. Ф.Ф.Крутоголов. Огненные версты. Краснодар, 1975. С.29-30.
Книга хорошая, конечно, но идеализация Сорокина автором сильно раздражает. Почему-то симпатизантам надо опутно всегда оскорбить и "врагов" своего кумира.
Иванов был распространным в те годы типов чиновников от революции. Облик его был ширпотребным: френч, галифе и английские ботинки с крагами, волосы до плеч и козлиная борода. Этот "революционный облик", кстати, очень любили меньшевики, эсеры и позже - троцкисты. (...) Иванов начал свою деятельность с того, что любое предложение Автономова издевательски высмеивал и проваливал. Всю недолгую историю их "сотрудничества" ознаменовала откровенная вражда и оскорбления.
Ширпотребно одевался и Балис - комиссар по делам национальностей, только своим поведением он играл братишку-морячка,а дальше те же волосы до плеч, кзлиный хвост вместо бороды, френч, краги...
Берлизов А.Е. Дорога чести. Краснодар, "Советская Кубань, 1995. С.207, 219.
Иван Лукич Сорокин
И. Л. Сорокин был одним из тех подлинных героев Гражданской войны, которых «выплеснул» на верх тех исторических событий буйный водоворот вооружённого противостояния Красного и Белого движений. Он стал таким самородком из народа в ходе вооружённой борьбы двух полярных классовых сил, как, к примеру, казаки Миронов и Шкуро, Каширин и Семёнов, Подтёлков и Покровский…
Иван Сорокин родился в станице Петропавловской Кубанской области в казачьей семье среднего достатка. С детства отличался решительным характером, который, однако, не помешал ему успешно закончить Екатеринодарскую военно-фельдшерскую школу. Она готовила кадры полковых медицинских работников для Кубанского и Терского казачьих войск.
…Первая мировая война началась для военфельдшера Сорокина в рядах первоочередной 1-й Кубанской пластунской бригады на Кавказском фронте. Там казачья пехота с берегов Кубани, Дона и Терека демонстрировала чудеса героизма, отличившись едва ли не во всех сражениях с турками, которые провела Отдельная Кавказская армия под командованием прославленного полководца старой России генерала от инфантерии Н. Н. Юденича. Это были Сарыкамыш и Ардаган, Эрзерум и Трапезунд, Эрзинджан и Хопа…
Военфельдшер Иван Сорокин воевал «примерно», не раз заменяя в окопах стрелков-пластунов и младших командиров в бою. Он был замечен начальством и отмечен боевыми наградами. Уже на второй год войны, в 1915-м, его отправляют на учёбу во 3-ю Тифлисскую школу прапорщиков, которую он заканчивает в чине казачьего хорунжего.
Сперва Сорокин проходил службу младшим сотенном офицером в 3-м Линейном казачьем полку. После новых отличий в боях с турками он получает чин есаула и становится командиром сотни 1-го Лабинского казачьего полка 2-й Кавказской казачьей дивизии. Воевать пришлось всё на том же Кавказском фронте…
Энергичный есаул Иван Сорокин не остался в стороны от Октябрьских событий. В начале 1918 года, когда старая русская армия прекратила своё существование, и казаки-фронтовики вернулись в родные станицы и хутора, бывший офицер организует казачий революционный отряд силой в 150 сабель. Свой отряд он привёл к железнодорожной станции Тихорецкой, где влился в состав Юго-Восточной революционной армии, которой командовал бывший казачий хорунжий А. И. Автономов.
Сорокин лихо и успешно командовал своим конным отрядом земляков на Кубани, где с начала 1918 года полыхала Гражданская война. Он умело командовал, умел сказать на митинге призывное слово, принять волевое решение. К Ивану Сорокину тянулись люди, и вскоре в его отряде насчитывалось до четырёх тысяч красных казаков. И не только казаков.
Бывший военный фельдшер становился для белого командования, основу которого составляли спецы императорского Генерального штаба, опасным противником. В апреле 1918 года сорокинский отряд нанёс сильный удар по корниловской Добровольческой армии, которая героически штурмовала город Екатеринодар.
Этот успех был замечен командованием красных войск, и в том же апреле Иван Сорокин становится помощником главнокомандующего войсками Кубано-Черноморской республики (была и такая в годы Гражданской войны в России). Однако вскоре Сорокин стал проявлять открытое неподчинение Автономову, проявляя известную «самостийность». Хотя ради справедливости надо заметить, что оба они имели во многом схожие взгляды на происходящие события.
Но и его прямой начальник допускал то же самое по отношению и к вышестоящим инстанциям. Такова была стихия Гражданской войны. В результате за отказ подчиниться контролю ЦИК и Чрезвычайного штаба Кубано-Черноморской республики по решению 3-го съезда Советов той же республики А. И. Автономов был снят с должности.
После снятия Автономова в мае 1918 года Иван Сорокин довольно успешно командовал сложным Ростовским боевым участком теперь уже против деникинской Добровольческой армии. Затем ему вверяется группа войск на Северном Кавказе.
Красным войскам на российском Юге требовался новый военный вождь: решительный, умеющий побеждать, популярный. 3 августа 1918 года политическим руководством Кубано-Черноморской республики бывший казачий офицер Иван Лукич Сорокин назначается главнокомандующим войсками Северного Кавказа. С 3 октября того же года он становится временно исполняющим обязанности командующего 9-й армией.
Вне всякого сомнения, Сорокин обладал прекрасными организаторскими способностями, личной храбростью, военным опытом, перенесённым им с Кавказского фронта в пламя Гражданской войны. Его личную популярность исследователи под сомнение не ставят. Он выступал за то, чтобы старые военные специалисты служили в рядах Красной армии. Его речи на митингах оказывали «зажигающее действие».
Но… в скором времени главнокомандующий Красной армии Северного Кавказа стал в своих частых публичных выступлениях критиковать местные партийные и советские органы за их открыто враждебную политику по отношению к казачеству. Он говорил о том, что политическое руководство не знает «местной специфики».
В нём рано развилось большое честолюбие, или, говоря иначе, от высокой должности, прав и возможностей закружилась голова. Хотя боевых успехов в конце 1918 года у красных на российском Юге становилось всё меньше и меньше: кубанское казачество в своей массе колыхнулось на сторону Белого движения. Историк-белоэмигрант А. А. Гордеев писал о тех событиях так:
«…Красные под начальством фельдшера Сорокина отступили за Кубань. Вторая часть (Таманская армия. - А. Ш.) отступила в сторону Новороссийска и дальше на Черноморское побережье, а оттуда передвинулась и сблизилась с частями Сорокина.
На территории Кубани было сосредоточено до 90 000 красных войск при 124 орудиях против 35–40 000 человек добровольцев при 89 орудиях. Станицы всё время переходили из одних рук в другие…»
Сорокин стал стремиться к неограниченной власти. По его приказам производились незаконные реквизиции, аресты и расстрелы. Во второй половине 1918 года он уже открыто противопоставлял себя руководству Кубано-Черноморской республики, которое поддерживало тесную связь с Москвой.
Под предлогом укрепления дисциплины в красных частях он отстраняет от командования Белореченским округом Г. А. Кочергина. Приказывает расстрелять якобы за невыполнение его приказа командующего Таманской армией И. И. Матвеева, человека большой личной популярности среди бойцов.
Сорокинский конфликт с руководством Советской республики в Кубано-Черноморском крае близился к концу. На съезде командного состава Красной армии Северного Кавказа главнокомандующий обвинил политическое руководство республики в плохом снабжении красных войск продовольствием и обмундированием, боеприпасами и денежным довольствием. В том вызревшем конфликте эта речь стала последней каплей.
Сорокина решают снять с поста главнокомандующего. Дело дальше обстояло так. Секретарь Кубано-Черноморского края М. И. Крайний перебросил через стол президиума того съезда краскомов записку председателю ЧК М. П. Власову. В записке говорилось о том, что на днях будет решаться вопрос о снятии Сорокина. В записке говорилось:
«…Или эта сволочь, или мы».
Однако Власов не заметил переброшенной ему записки. Её поднял начальник пятигорского гарнизона Чёрный, который был сторонником главнокомандующего.
На следующий день Сорокину стало известно содержание записки Крайнего. Он собирает Военный совет армии, который принимает обвинительное решение по отношению к руководству Кубано-Черноморского края. Руководители края обвиняются, ни много ни мало, в измене революционному делу и приговариваются к расстрелу.
21 октября 1918 года у подножия горы Машук на окраине Пятигорска были расстреляны председатель ЦИК Кубано-Черноморской республики А. А. Рубин, секретарь крайкома М. И. Крайний, председатель ЧК М. П. Власов, председатель фронтовой ЧК Б. Г. Рожанский.
Дальнейшие события развивались быстро. 27 октября на железнодорожной станции Невинномысской экстренно собрался Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа. Своим решением он объявил главнокомандующего Ивана Сорокина и трёх его заместителей вне закона.
30 октября Сорокин был арестован в Ставрополе, близ которого шли тяжёлые бои. До суда его помещают в городскую тюрьму под надёжную охрану - опасаются попытки освобождения.
1 ноября в камеру врывается с оружием в руках командир 3-го Таманского полка Таманской армии И. Т. Высленко. Он убивает заключённого: тогда считалось, что это была личная месть за убийство командарма таманцев Матвеева.