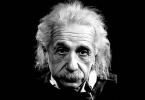Учителя в апостольский век
Начнем с апостольской общины во главе с Иисусом Христом. Эта община была первой новозаветной школой, в которой ученики усваивали Божественное Откровение из уст Самого воплотившегося Бога Слова. Именно в усвоении этого опыта и состояло прежде всего ученичество апостолов Христовых. Ученики называли Иисуса "учителем" (didaskalos) и "господом" (kyrios), и Христос принимал это как должное: "Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точно то" (Ин. 13:13). Задачу учеников Он определял прежде всего как подражание Ему. Умыв ноги ученикам на Тайной вечери, Христос сказал им: "Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я" (Ин. 13:14-15). Преемство учения, переходящего из поколения в поколение, было неотъемлемой чертой всякой духовной школы. Иисус Христос как учитель был преемником ветхозаветных пророков и Иоанна Крестителя; преемниками Иисуса стали апостолы и первые поколения христианских "дидаскалов"-учителей, о которых упоминается уже в посланиях апостола Павла: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями» (Ефес. 4:11) . В задачу этих дидаскалов входило прежде всего научение вере оглашенных и новокрещеных; наряду с пастырями дидаскалы занимались евангелизацией и катехизацией членов молодых христианских общин
«Дидаскал, - пишет протопресвитер Николай Афанасьев, - обучал Церковь через раскрытие истин веры, содержащихся в Предании и в Писании. Если не все, то по большей своей части дидаскалы – ученые богословы древней Церкви, представители богословской науки, которая служит Церкви... В противоположность языческим школам они открывали свои школы, где не только обучались оглашенные, но и верные, желающие познать Слово Божие» . Об этих школах, продолживших традицию, восходящую к Иисусу Христу и Его апостолам, и пойдет речь.
Проповедь апостолов и их преемников стала почвой, на которой сформировались все духовные школы христианского Востока.Опыт апологетов показывал, как трудно было донести истины Откровения, научить опыту жизни во Христе античное общество. Эта задача была блестяще выполнена катехизическими школами древнего мира. Нет оснований полагать, что возникновение огласительных училищ произошло внезапно. Оглашение являлось неотъемлемой частью духовной и литургической жизни Церкви. Так, например, община римских христиан, судя по археологическим и нарративным данным, имела обширный институт катехуменов, которые окормлялись епископами, пресвитерами и дидаскалами. Во II веке в Риме уже действовала христианская богословская школа под руководством святого Иустина Философа.
Александрийская катехизическая школа в первые века христианства
С конца второго века внутри церкви начинает делаться заметным стремление к научной религии и теологической науке. Оно сказывалось сильнее всего в городе науки, Александрии, где христианство приняло наследие Филона и где, по всей вероятности, до конца второго века и не было строгой формулировки христиан на исключительных основаниях. И александрийская церковь, и александрийская христианская школа попадают одновременно под освещение истории (приблизительно в 180 году); в этой школе преподавалась вся греческая наука, которую употребляли в служении Евангелию и церкви. Школу в смысле собрания учеников вокруг авторитетного учителя следует отличать от другого употребления слова «школа», принятого в исторической литературе. Так, Александрийской школой чаще называют определенную богословскую традицию, сформировавшуюся в Александрии и отличавшуюся от другой традиции, Антиохийской. Происходит усвоение церковной мыслью, а соответственно, и воцерковление отдельных элементов античного мировоззрения, чему мы обязаны в указанное время преимущественно знаменитым «дидаскалам» Александрийской катехизической школы – Клименту Александрийскому и Оригену. Взгляды александрийских теологов 2 – 3 веков основывались в первую очередь на соответствующих представлениях эллинистического писателя и философа Филона Александрийского и ранних христиан; кроме того эти воззрения параллельно встречались у мыслителей того же периода – неоплатоников.
Трудно представить в высшей степени важное историческое значение той работы, которая совершалась в александрийской школе: вся организация богословского обучения в древности восходит к александрийскому образцу; школы в Кесарии, Антиохии, Эдессе, Низибии – дочери александрийской школы. Чем была платоновская Академия для философии, тем же была высшая школа в Александрии для христианской науки. Александрийцы участвовали в становлении христианского богословия, вырабатывая отношение христианства к античной культуре, критикуя ее и одновременно многое из нее заимствуя. Их деятельность, в свою очередь, привлекала к христианам все больше образованных людей, которые переставали видеть в христианстве только зловредное суеверие, каким оно казалось писателям начала II века (например, Тациту).
Первым учителем Александрийской огласительной школы был, по всей вероятности, Пантен. Он был мирянином из обратившихся стоиков, родом из Сицилии. Как уверяет Евсевий («Церковная история», V, 10), занятие философскими науками в школе было заведено уже при Пантене, приобретшем известность во времена императора Коммода. Изучение эллинистической философии было внесено в расписание школы с тем, чтобы иметь возможность дать ответ еретикам на их возражения. Изучение философии с самого начала играло роль вспомогательную – апологетическую. Большинство современных исследователей придерживается того мнения, что ни при Пантене, ни при Клименте катехизическая школа не находилась под прямым церковным контролем, а только при Оригене или после него глава школы попал под прямое покровительство александрийского папы.
Тит Флавий Климент, преемник Пантена, вероятно был афинянином, из семьи язычников. Хорошо начитанный в греческой литературе и прекрасно разбираясь во всех существовавших тогда философских системах, он не нашел во всем этом ничего, что могло бы дать постоянное удовлетворение. Уже взрослым он воспринял христианство и в дальних странствиях на Запад и Восток искал самых мудрых учителей. Приехав в Александрию около 180 года по Р. Х., он стал учеником Пантена. Плененный личностью своего учителя, которого он привык называть «блаженный пресвитер», Климент стал пресвитером в александрийской церкви, помощником Пантена, а около 190 года – его преемником. Климент продолжал трудиться в Александрии. Большую часть своей жизни Климент провел в Александрии, без преувеличения, самом замечательном городе Римской Империи его времени. Во времена Климента это был мегаполис, население которого, вероятно, достигало миллиона жителей самой различной национальности. Он обращал язычников и просвещал христиан до тех пор, пока гонение при императоре Септимии Севере в 202 году не вынудило его бежать, чтобы никогда не вернуться. В 211 году мы вновь встречаемся с Климентом, участвующим в переписке епископов Кесарии Каппадокийской и Антиохии. Примерно через пять лет христиане оплакивали его кончину (Евсевий Кесарийский, 6. 14, 18 – 19). Возглавляя катехизическую школу, Климент наложил на нее свой отпечаток, стараясь объединить библейское и эллинистическое мировоззрение своей глубокой и изысканной мыслью. Это был век гностицизма, и Климент соглашался с гностиками в том, чтобы держаться «гнозиса» – то есть, чтобы религиозное знание или просвещение были главным средством совершенствования христиан. Однако для него «гнозис» предполагал предание Церкви. Будучи убежденным в исторической миссии христианства как мировой религии единого Бога, адресованной всему «человеческому роду» (Strom. VI 159, 9) , Климент всю свою жизнь посвятил тому, что можно назвать «духовным монашеством». Его восприятие христианства в персональной и не догматичной форме, как и принадлежность к кругу людей, которые могут быть названы «культурной богемой» Александрии, в высшей степени способствовало осуществлению этой задачи.
Сначала Ориген занимался исследованием Священного Писания, но затем ввиду притока образованных людей поставил дело шире и ввел обучение светским наукам, которые обыкновенно преподавались в высших языческих училищах. Отличительными признаками направления в богословии этой школы были: широко применяемый в толковании Священного Писания аллегорический метод; стремление раскрыть философскую сторону христианского учения и представить его в виде всеобъемлющей системы. На богословие александрийцев оказывала влияние философия Платона (427–347 гг. до Р. Х.) и неоплатоников (в особенности Плотина – 205–270 гг.). В представлении александрийцев истинное бытие принадлежит только духовному миру. Александрийское направление христианского богословия имело таких выдающихся представителей – Климента, Оригена, св. Афанасия, «великих Каппадокийцев» свв. Василия и двух Григориев (Богослова и Нисского), Кирилла Александрийского. В то же время это направление при одностороннем развитии было доведено до уклонения от чистоты Православия. С Александрийским направлением, помимо ошибок Оригена, связывается происхождение монофизитства.
Наиболее мощный гений раннего христианства, чьи труды питали духовность и экзегезу как на Востоке, так и на Западе. Но его философские гипотезы, систематизированные не слишком разборчивыми учениками, потребовали болезненной работы по различению духов со стороны Церкви. Ориген (185 – 254) является наиболее влиятельным богословом восточной Церкви, отцом богословской науки, творцом церковной догматики, основателем библейской филологии. «Ориген, – говорит проф. прот. П. Гнедич, – был одним из немногих древнехристианских писателей, оказавших такое большое влияние на развитие христианского богословия и вокруг имени которого возникло столько споров». Ориген первый из церковных писателей, о жизни которого сохранилось достаточно сведений. О жизни и деятельности Оригена сохранились многие подробные сведения у Евсевия в VI кн. Церковной Истории; но это, в сущности, незначительные фрагменты от «Апологии Оригена», составленной в начале IV в. пред мученическою смертью пресвитером Памфилом и Евсевием. Некоторые воспоминания в этих фрагментах представляют немногие сохранившиеся письма самого Оригена. Ориген оказал немалые услуги Церкви в области богословской науки. Этим объясняется его продолжительное влияние на Востоке. Великие отцы, можно сказать, воспитались на Оригене. К его сочинениям они относились с уважением. Даже противники его пользовались заимствованными у него аргументами и положениями и большей частью зависели от него. И в последующее время, несмотря на старание Юстиниана, Оригена не забывали. Ориген и выразившаяся через него Александрийская богословская школа неповинны в прямом порождении арианства в той мере, как Лукиан и Антиохийская школа.
Итак, несколько поколений дидаскалов III – IV вв. (Пантен, Климент, Ориген, др.) заложили основы Александрийской школы богословствования. Остальные представители этой традиции в сущности повторяют их разработки. Среди них были и местные архиереи: Иракла (247), Дионисий (264), сщмч. Петр. Преподаватели в «дидаскалии» назначались по благословению Александрийского епископа. Вместе с тем училище, где преподавали александрийские дидаскалы, не всегда являлось официальным церковным учебным заведением. В Александрии слишком сильна была традиция свободного, частного преподавания философии, в том числе и христианского направления, чтобы могла оформиться целостная (непротиворечивая) система христианского образования. Частным проявлением этого было то, что сама школа дидаскалов в Александрии не превратилась в учебное заведение с четкой организацией и установившейся программой. Естественно, это не могло не сказаться позже на развитии богословских дискуссий, межконфессиональных споров и еретических течений в александрийском богословствовании.
Антиохийская богословская школа
Важная роль в богословских спорах эпохи Вселенских Соборов принадлежала «Антиохийской школе». Одним из основателей ее был обратившийся к христианству софист Малхион, противник известного епископа Павла Самосатского. Между 260 и 265 гг. в Антиохии появился известный христианский богослов и писатель сщмч. Лукиан из Самосаты, также участвовавший в формировании Антиохийской школы. В IVв. основателями особого направления в антиохийском богословии стали Диодор Тарский и его ученик Феодор Мопсуестийский.
Крупнейшие центры сирийской христианской образованности – знаменитые академии Эдессы и Нисибина – возникли, подобно эллинистическим школам, на почве небольших катехизических школ при христианских храмах. Согласно сирийским источникам, в этих приходских школах обучались только мальчики. Обучение начиналось с освоения основ грамоты по Псалтири и заучивания псалмов наизусть; так, основатель Нисибийской академии мар Нарсай поступил в школу города Айн Дулба в возрасте семи лет; благодаря своим незаурядным способностям, он уже через девять месяцев "отвечал всего Давида", т. е. выучил наизусть всю Псалтирь. Дальнейшее начальное образование включало в себя изучение Ветхого и Нового Заветов, а также библейских толкований Феодора Мопсуестийского. В систему этого начального образования входило, кроме того, заучивание наизусть важнейших богослужебных песнопений и некоторый опыт в гомилетике.
Антиохийский богословский центр (или “школа”), как находящийся на почве сиро-семитической, заявил себя симпатиями и к буквальному толкованию Библии, и к аристотелевскому рационализму как философскому методу. Динамическое антитринитарство Павла Самосатского (III в.) достаточно характерно для антиохийской почвы, как характерно для семитического гения и более позднее средневековое увлечение Аристотелем в арабской схоластике (Аверроэс). Но сама Антиохия, как столица округа, была в то же время и университетским центром эллинизма. Сочетание этого яда гностицизма с антитринитарным ядом иудаизма был серьезным препятствием именно для здешнего школьного богословия – построить здравую и ортодоксальную доктрину троичности. На этом и споткнулся достопочтенный профессор Антиохийской школы, пресвитер Лукиан. Он воспитал довольно многочисленную школу учеников, занявших впоследствии много епископских кафедр. Они гордились своим наставником и называли себя “солукианистами.” Они при начале арианского спора очутились на стороне Ария. Епископу Александру Александрийскому Лукиан представлялся ему продолжателем той ереси, которая недавно отшумела в Антиохии, т.е. продолжателем Павла Самосатского. Действительно, Лукианово неправославие было столь явно и достаточно громко, что при трех последовательно сменявших друг друга на антиохийской кафедре епископах: при Домне, Тимофее и Кирилле (ум. 302) – Лукиан был на положении отлученного от церкви. Учениками сщмч. Лукиана были Евсевий Никомедийский, Леонтий Антиохийский и др. Расцвета Антиохийская школа достигла именно в 4 в. Представителями ее были Диодор Тарсийский, свт. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуеcтский, блж. Феодорит Киррский.
Соответственно, следует отметить, что святоотеческие толкования III – VII веков христианства, по своему внутреннему характеру можно разделить на две группы. К первой можно отнести творения святых отцов, принадлежащих к александрийской школе, отличительной чертой которой является аллегорический метод толкования Священного Писания. Аллегорический метод толкования Библии был заимствован учителями Александрийской школы как часть античного наследия. В данных толкованиях содержится обильный материал для изучения Мессианской идеи Священного Писания Ветхого Завета. Сюда относятся творения святителей Кирилла Александрийского, Василия Великого, Афанасия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова и др. Ко второй группе, получившей название антиохийской школы, относятся святоотеческие творения, отличающиеся реализмом, раскрывающим в Священном Писании преимущественно буквальный смысл. Поэтому они усматривают в Священном Писания Ветхого Завета гораздо меньше Мессианских пророчеств и прообразов, чем творения написанные представителями александрийской школы. К этому направлению богословской мысли можно отнести творения святителя Иоанна Златоуста, святого Ефрема Сирина, блаженного Феодорита и другие. Преподобный Ефрем.
Заключение
Еще с начала 2 века перед отцами и учителями Церкви встали две задачи: сформулировать догматические и нравственные истины христианства на языке своего времени и воспринимать элементы тогдашней греко-римской культуры для толкования церковного вероучения и Библии. Выполнению этих задач немало способствовали энциклопедические знания, которыми обладало большинство святых отцов. Будучи выдающимися представителями античной культуры 3 – 4 веков, они своим образованием значительно превосходили современных им языческих философов и писателей.
Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. I – IV века / под общ. и науч. ред. А. Глущенко и А. Г. Дунаева. – М.: Издательский Совет РПЦ, 2004. С. 410 – 411.
Свенцицкая И. С. Раннее христианство: Страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М.: издательство политической литературы, 1989. С. 136.
См.: Евсевий Памфил. Церковная история. - [Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). М.: Электронная библиотека Данилова монастыря, 2002. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
См.: Афонасин Е.В. «Строматы» Климента Александрийского / Предисловие к книге: Климент Александрийский. Строматы. – С.-П., 2003.
Евсевий Памфил. Церковная история. - [Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). М.: Электронная библиотека Данилова монастыря, 2002. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). Карташов А. В. Вселенские Соборы. /А. В. Карташов. – М., 1994.
Илларион (Алфеев), иеромонах. Православное богословие на рубеже столетий. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, М., 1999. Глава «Духовное образование на христианском Востоке в I-VI веках».
Карташов А. В. Вселенские Соборы. /А. В. Карташов. – М., 1994.
Страница 1 из 12
АНТИОХИЙСКАЯ ШКОЛА БОГОСЛОВИЯ – в узком смысле – сеть христианских церковных учебных заведений (аскетериев) в г. Антиохии, расцвет которых приходится на вторую половину IV – первую половину V в.; а в широком смысле – плеяда выдающихся восточных богословов в конце III – начале IV в., развивавших, в противовес александрийской школе, известной как «огласительная» (катехизическая), рационалистические приемы христианской экзегезы (толкования Священного Писания). Если александрийцы тяготели к мистическому и аллегорическому толкованию Библии, хотели перевести христианство на язык философии, то антиохийцы отличались трезвым рассудочным, буквалистским подходом и разъясняли смысл Священного Писания, опираясь на историю, логику и грамматику. В антиохийской школе нашло свое выражение богословское направление, которое в течение IV и V вв. имело сильное влияние на ход догматических движений, раскрытие и обоснование церковного учения. Антиохийское направление в своих основных началах проведено было последовательнее, чем александрийское. В антиохийской школе окончательно раскрылись те положительные и отрицательные стороны, которые обнаружились в ней (в противоположность александрийской школе) при самом ее возникновении: строго научный грамматически-исторический метод в экзегетике и нерасположение к чистому умозрению вследствие применения аристотелевского диалектического метода и вообще господства аристотелевской философии. Богословы антиохийского направления предпочитали ясность понимания в догматике, сочетали исследования Священного Писания с практическим уважением к содержанию Библии. В нравах, языке, воззрениях на природу и людей у жителей Сирийского плоскогорья (с Антиохией в качестве центра) долго хранилось много такого, что сближало I в. с IV и V вв. и давало возможность уразуметь прошлое при помощи настоящего. Сирийское плоскогорье было родственно и близко к той географической среде, в которой жил и действовал Иисус и в которой явились первые записи о Его жизни и деяниях. Поэтому антиохийская школа богословия сильна своей экзегетикой. Работа по толкованию Священного Писания заставляет быть внимательным ко всем оттенкам в выражении мыслей его авторов, ценить каждую подробность, учитывать малейший штрих. Читать через строку, притягивать свидетельства разбираемого автора в одну сторону становится для исследователя нравственно невозможным. Умственная трезвость при этом является не добродетелью, а элементарной обязанностью. При таких условиях в книгах Библии (особенно Нового Завета) антиохийцы вычитывали не совсем то, что находили там александрийцы. Если последним Библия говорила только о Боге, то первые не проходили мимо того, что в Евангелиях говорится о человеке-Иисусе. Если александрийцы акцентировали проблему единства Божества при множественности лиц, то антиохийцы боролись с тенденцией слить эти лица воедино. Когда поднялись христологические споры, то александрийцы склонны были доводить свои заключения до поглощения двух природ Богочеловека в одном естестве. Антиохийцы в борьбе с этим направлением, наоборот, останавливались на человеческих свойствах Иисуса, засвидетельствованных в Писании, и подчеркивали разделенность естеств в Нем до полного их обособления.
Александрийское и антиохийское богословие
Термины»антиохийский»,«александрийский» - условные, технические. Они служат для обозначения оттенков в богословствовании церковных писателей IV?V вв. Эти писатели, при коренном тождестве своей догматической позиции, имели все же в своем богословствовании некоторые особенности, обусловленные или личными их качествами, или местными традициями и мощными влияниями пройденной школы. По этим особенностям издавна они делились на две группы: александрийцев и»восточных», или - по принятой школьной терминологии - антиохийцев. Различие между ними в своей основе сводится к различию в их природном характере. Александрийцы были глубокими мистиками, антиохийцы - людьми трезвого рассудка. Те жили религиозным чувством, эти - научными интересами. Те любили созерцать в христианстве его таинственную, непостижимую сторону и трепетно ощущали в нем все высшее, духовное, божественное, ощущали так, что и не думали доказывать его рационально, находя полное удовлетворение в своем глубоком религиозном чувстве. Эти, наоборот, сосредоточивались не на таинственном и сокровенном, а на внешнем исторически данном содержании христианства и центр тяжести своих изысканий полагали в доказывании непостижимых тайн религии и в выработке точных и определенных богословских формул. В этом смысле тонкие различия между теми и другими сказываются во всех видах церковной письменности. Александрийцы в экзегетике держались таинственного смысла Писания, в апологетике посвящали много внимания теории о таинственных воздействиях Логоса в мире языческом, в полемике опирались на мистико–сотериологическую идею обожения, в истории отмечали супранатуральные факторы, управляющие ее движением (Евсевий Кесарийский). Антиохийцы же предпочитали в экзегетике буквально–историческое понимание (не разрешая истории в аллегорию), в апологетике и полемике сосредоточивались главным образом на своих диалектических доказательствах, в истории не поднимались выше рамок эмпирической действительности. В общем александрийцы всегда были богаче антиохийцев религиозным чувством, но уступали им в научной рефлексии и в точности своей терминологии. Наоборот, антиохийцы по образованности были всегда выше александрийцев, но уступали им по глубине проникновения в возвышенные догматы христианства.
Указанное различие между александрийцами и антиохийцами, между мистиками и людьми трезвой науки, сказывалось как в богословии их, так и в аскетике. Александрийцы, следуя своим глубоким религиозным стремлениям, без всяких рациональных околичностей прямо созерцали во Христе Бога. Это было жизненным исповеданием их сотериологического упования - спасение (обожение) может подать только Бог. Эта идея составляла для них все. Для них не важны были рассуждения о том, как выразить и объяснить отношение ее к идее единобожия или как представить себе таинственное единство во Христе. Их живое религиозное чувство просто созерцало во Христе это совершенно непостижимое, недоведомое, но и совершенно неделимое единство. И они с ужасом отвращались даже от самой мысли о попытке как?либо отделять Христа от человечества или созерцать Его как человека. Они всегда видели в Нем Бога во плоти,«одно естество Бога воплощенное». Это воззрение много говорило сердцу человека, и в этом причина его жизненности, но оно, к сожалению, мало давало места всесторонней рассудочной обработке догмата. Подхватив идею, подсказанную сердцем, идею расплывчатую, неопределенную, как самый голос сердца, и приняв ее за точную формулу, неумеренные сторонники этого воззрения всегда могли впасть в крайность и кончить заблуждением, что действительно и случилось с монофизитами. Во всяком случае, впрочем, воззрение это весьма возвышенно. Удерживаемое в должных пределах, оно составило самую светлую и привлекательную сторону в воззрениях александрийцев и примыкающих к ним писателей (св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский). - Соответственно возвышенному характеру богословия александрийцев и аскетика их была в высшей степени одухотворенной. Мистические состояния, созерцательность выдвигались в ней на первый план, и даже в области практики подвижнической центр тяжести сосредоточивался на внутреннем подвиге борьбы с помыслами.
Иного типа было богословие антиохийцев. Оно чуждо было возвышенных мистических полетов александрийцев. Элемент рассуждений в нем преобладал по преимуществу. В поте лица своего антиохийцы трудились над решением разных проблем, связанных с рациональным обоснованием христианских догматов. Их трудам мы обязаны целым рядом точных формул, которые со времени Халкидонского Собора вошли во всеобщее употребление как вполне удовлетворяющие интересам научной формулировки догматов. К сожалению, некоторые антиохийцы позволяли себе слишком увлекаться задачей рационального выяснения догматов и увлекаться в такой степени, что во имя логической последовательности в своих построениях готовы были пожертвовать и верой в Божество Христа (Арий), и единством Его существа (Несторий). - Насколько мистической стороне христианства антиохийцы не давали достаточного раскрытия, настолько и в аскетике чуждались всякой созерцательности. Аскетика их была внешняя, практическая, моралистическая; это - аскетика суровых подвигов плоти (св. Ефрем Сирин) или деятельных христианских добродетелей (св. Иоанн Златоуст). Антиохийцы были не»созерцателями», а»практиками»по преимуществу.
Влияние на массы антиохийцев или александрийцев обусловливалось личными склонностями каждого и лишь отчасти местными традициями. Мистики усвояли идеи александрийские, люди здравого смысла - антиохийские. В таком порядке каждый держался известного любимого отца и соответственно тому делал различие между своими авторитетами. Но в эпоху Юстиниана, после возникших христологических споров, таким положением вещей удовлетвориться уже было нельзя, особенно при стремлении найти общие и обязательные для всех авторитеты. Сам собой возник поэтому вопрос о сравнительной оценке»отцов». Еще во время несторианских споров раздавались авторитетные голоса против некоторых из антиохийских»отцов»(Феодора Мопсуестийского, Диодора Тарсийского). Подозрение в несторианстве тогда было наброшено даже на самых выдающихся из»восточных»(блаж. Феодорита). В эпоху Юстиниана идея выделения общепризнанных авторитетов получила свое осуществление. Результаты получились вполне определенные. После спора о трех главах антиохийские отцы должны были отступить на задний план. Лишь светлый облик великого Златоуста заменил собой померкшую плеяду»восточных». Александрийцы же и примыкающие к ним писатели получили преобладание. Значение их тем более возросло, что некоторые из них допустили или усвоили точную антиохиискую терминологию и, таким образом, отдали должное и прямым научным потребностям. Волновавшие Византию споры лишь немного затронули александрийское богословие. Осуждение Оригена, основателя александрийской школы, не могло серьезно коснуться его, ибо представители его уже в IV в. отрешились от многих или от всех крайностей оригенизма. Лишь монофизитство со своим уродливым извращением александрийских идей подорвало отчасти - например, в учении об обожении - уважение к александрийскому богословию, но только лишь отчасти. В общем оно сохранило преобладающее значение, и александрийские отцы остались главными авторитетами в византийском богословии.
История развития христианской мысли знает несколько крупных центров, около которых совершалась поляризация культурных сил и которые стали на долгое время средоточием умственной и религиозной жизни. Одним из таких центров является прежде всего Александрия. По целому ряду разнообразных причин ей дано было на протяжении приблизительно трех веков быть руководителем богословских интересов и исканий и дать церкви ряд крупных имен в истории восточного богословия. Не случайно именно в ней процветали и вошли в историю такие крупные личности, как Климент Александрийский, Пантен, Ориген и другие, менее знаменитые писатели и деятели христианского просвещения. Из Александрии именно возникло арианство и в ней же явился «отец православия», св. Афанасий, полемическую и богословскую деятельность которого впоследствии продолжали и развивали его современники, великие каппадокийцы, на себе вынесшие весь подвиг тринитарных споров. Александрия же оставалась центром богословского просвещения и в эпоху следующего за тем крупного богословского столкновения, христологического, когда догматическая борьба концентрировалась около двух очагов богословской мысли, александрийского и антиохийского (или восточного), определивших два направления в православной богословской письменности.
Основателем Александрийской школы, по преданию, был евангелист Марк. Сначала она служила для образования христианских детей и для приготовления оглашенных к Крещению, но вскоре явилась необходимость расширить круг преподавания и приготовлять христиан к борьбе с образованными язычниками.
Со II в. в Александрии действовала школа оглашенных (катехуменов). Такие школы существовали во многих местных общинах. Однако александрийская школа была особой. Широкое энциклопедическое образование, которое давала александрийская школа, было особенно важно для христианской апологетики, так как, чтобы объяснить христианскую веру и Св. Писание грекам, необходимо было тщательно изучить их образ мышления. Именно здесь, в александрийской школе, богословы стали применять исключительно аллегорический метод экзегезы. Интересный пример александрийской «аллегоризации» Писания мы находим в «Послании Варнавы», где уже можно отметить тенденцию к натянутым толкованиям, иногда не имеющим ничего общего с реальностью; злоупотребление методом было присуще многим экзегетам александрийской школы. С одной стороны, они понимали необходимость и важность ветхозаветной истории, но, с другой стороны, аллегоризация всех, даже мельчайших деталей этой истории избавляла толкователей от необходимости принимать эту историю всерьез, а это делало Ветхий Завет куда более приемлемым для греческого ума. Св. Писание в понимании представителей аллегорической школы экзегезы было чем-то вроде криптограммы, имело эзотерический смысл, доступный лишь избранной элите образованных интеллектуалов, но скрытый от простых непосвященных смертных.
Александрийская богословская школа -- ветвь ранней патристики, которая вместо следования букве новозаветных писаний (на чём настаивала Антиохийская школа) развивала аллегорический метод истолкования Библии. Например, слова Иисуса о том, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное, Климент Александрийский истолковывал в том смысле, что «Писание требует от нас не отказа от собственности, но отказа от чрезмерной привязанности к собственности».
Первым по времени выдающимся представителем Александрийской школы был Пантен (189-195 г.). По словам историка Евсевия, это был муж высокого ума и обширной учености, основательно изучивший не только богословские науки, но и языческую философию. Первоначально он принадлежал к школе стоиков, но, ознакомившись с учением Евангелия, стал ревностным христианским миссионером, проповедовавшим Христово учение даже в Индии. За свою ученость и педагогическую опытность он поставлен был главою Александрийской школы, в которой долгое время подвизался в качестве ее учителя и воспитателя.
Приемником Пантена в Александрийской школе был ученик его Климент Александрийский (+217 г.). Климент получил блестящее образование в высших языческих школах. Не находя полного духовного удовлетворения в языческой философии, он стал искать его в христианстве и с этой целью предпринимал далекие путешествия на Восток и Запад, чтобы на месте ознакомиться с христианским учением из бесед с мужами, которые сохранили чистое предание веры от времен апостольских.
Климент первый сделал попытку систематического изложения основных начал христианской педагогики. В своем сочинении «Педагог» он изображает Самого Христа под видом педагога и в лице Его представляет нам идеал воспитателя.
Христос-Педагог воспитывает людей не одним учением Своим, но главным образом примером собственной жизни, так же и христианские воспитатели. Педагог побуждает к добродетели других и это важная мера воспитания. В отношении к людям Педагог-Христос руководится безграничной любовью; тем же чувством должны руководствоваться и христианские воспитатели. Одним словом, Христос-Учитель есть совершеннейший Педагог, Которому во всем должны подражать и христианские воспитатели. Таковы главнейшие педагогические наставления, изложенные Климентом Александрийским в его труде «Педагог».
Преемником Климента в катехетической школе стал Ориген (184-254), роль которого в истории христианства трудно переоценить. Его по праву называют основателем христианского богословия. По своим интеллектуальным данным и по объему проделанной им работы он был на голову выше всех ранних христианских мыслителей. Ориген был великим христианским философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического объяснения христианства в категориях эллинской мысли. Он считал, что Церковь, утратившая контакт с людьми, спасение которых есть ее миссия, отказывается от своей кафоличности, превращается в секту.
Постепенно школа сделалась блестящим академическим заведением, дававшим широкое энциклопедическое образование, включая греческую философию и начатки естественных наук. Среди ректоров ее были не только клирики, но и интеллектуалы из мирян. Это положение изменилось только в IV в., когда возглавляющие Александрийскую Церковь архиепископы, сами будучи богословами, взяли под свой контроль богословскую и интеллектуальную жизнь школы.
В то же время в Антиохии начала формироваться другая школа - соперница Александрийской. В отличие от александрийского аллегоризма характерной особенностью антиохийцев являлся историзм .
Антиохийская школа (греч. ИеплпгйкЮ учплЮ фзт Бнфйьчейбт) -- ветвь ранней патристики с центром в Антиохии. Основана в конце III века, наибольшего рассвета достигла в IV веке. Антиохийская школа в противовес Александрийской школе настаивала на буквальном толковании Библии, мало прибегая к аллегорическим и мистическим трактовкам Священного Писания. Тогда как александрийцы разрабатывали синтез христианства с учением Платона, антиохийцы следовали Аристотелю. Они не только не отвергали научного знания, но и (по свидетельству Епифания) «с утра до вечера сидели над занятиями, стараясь излагать представление о Боге при помощи геометрических фигур». В христологических вопросах антиохийские богословы подчёркивали человеческую сторону Христа, а александрийцы -- божественную. Крупнейшие представители -- Кирилл Иерусалимский, Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст и Феодорит Кирский. Учениками антиохийской школы были знаменитые ересиархи Несторий и Феодор Мопсуестийский.
Настоящим основателем антиохийской школы считается Лукиан, пресвитер Антиохийский. Он был великим ученым экзегетом и исправил греческий текст Септуагинты, сверив его с еврейским оригиналом. В отличие от оригеновского аллегоризма его методом был буквализм. Однако и у него были некоторые спорные высказывания, в частности, те, которые легли в основу арианства: «Было время, когда Сына не было» - или: «Сын был сотворен». Говоря это, Лукиан имел в виду цитаты из Писания: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони» и «Образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари»(Притч.8:22-23;Кол.1:15).Учениками Лукиана были Арий и многие из его единомышленников. Таким образом его можно в каком-то смысле назвать основоположником арианства, которое в зародыше уже существовало в адопционистских тенденциях Павла Самосатского. Однако сам Лукиан был весьма уважаем при жизни, никто его в ереси не обвинял, он умер мучеником и числится в наших святцах.
В 260г. епископом Антиохийским стал Павел Самосатский. Он считается родоначальником еретического учения адопционизма, хотя, возможно, подлинным его родоначальником является ренегат Феодор Византийский. Учение Павла Самосатского характеризовалось как адопционизмом, так и модализмом. Бог и Его Слово (Премудрость) едины, единосущны (пмппэуйпт). Именно благодаря Павлу это слово, впервые употребленное Оригеном, стало широко известным на Востоке. Павел использует его в том смысле, что между Отцом и Сыном нет различия. Слово вдохновило простого человека Иисуса и вселилось в него после крещения. Павел верил, что и сам он равен Христу, каким, впрочем, должен стать каждый из нас. Отчасти учение Павла сродни примитивному иудео-христианскому пониманию Личности Христа. Его мысль была укоренена в сирийской, а не в греческой традиции. Но для его современников это была несомненная ересь. В 268 г. на соборе в Антиохии учение Павла было осуждено. Осуждено было и слово пмппэуйпт, за которым после этого надолго сохранилась плохая репутация. Согласно решениям собора, Христос отличается от пророков в принципе: те были вдохновлены Духом Божиим, а Он был воплощен.
Осуждение несторианства с подачи Кирилла Александрийского ознаменовало собой закат антиохийского богословия.
Латинская христианская школа. Во втором веке языком христианства был греческий. В это время христианские писатели Запада были по Большей части выходцами из стран Востока; Татиан - сириец, Валентин - египтянин, Ириней - грек из Малой Азии, Иустин - самарянин. Если в начальный период христианство бытовало в основном лишь в иудейских кругах, то в последующий, второй, период оно распространялось главным образом в той среде, где говорили по-гречески. Даже латиняне и африканцы, обращенные в христианство, принадлежали к городской среде, где языком культуры был греческий. Примером может послужить Тертуллиан. Лишь в третьем веке осуществилась встреча между христианством и собственно латинской традицией.
Считается, что родина латинского христианства - Африка. Несомненно, уже очень рано здесь были созданы важные произведения, в которых проявился дух латинского христианства. И очень вероятно, что в начале второго столетия здесь, в Африке, уже были римские христиане, говорившие по-латыни. Действительно, в "Пастыре" Гермы встречаются христианские латинские выражения, переведенные на греческий. В ту эпоху появились первые латинские переводы Ветхого Завета, в частности псалмов. Возможно, что эти христианские переводы предшествовали переводам, выполненным еврейскими переводчиками. Наконец, некоторые греческие произведения уже очень рано были переведены на латинский в Риме. Это относится, в частности, к "Посланию" Климента, вызвавшему особый интерес в римской христианской общине. Все же в Риме - городе поистине космополитическом - греческий язык оставался наиболее общим языком Церкви вплоть до середины третьего века. В эту эпоху появился первый римский писатель, писавший на латинском языке, - Новациан. В начале же третьего века христианская латинская литература обогатилась гениальными произведениями Тертуллиана. А еще раньше, в 180 г., были созданы "Деяния мучеников Сцилиума", написанные по-латински. В них говорится о libri et epistulae Pauli, что как будто бы указывает на латинский перевод Библии. Следовательно, латинское христианство существовало в Африке еще в конце второго века.
В середине третьего века Западная Церковь становится полностью латинской. В Карфагене проходит Собор африканских епископов, созванный святым Киприаном. Все акты этого Собора были написаны по-латински. Вероятнее всего, именно в Африке жил поэт Коммодиан, чье творчество весьма характерно для африканского христианского мира, где бытовало чрезвычайно конкретное толкование Писания и апокалиптическое видение истории. Римлянин Новациан, порвавший с римским епископом Корнелием, написал по-латински трактат "О Троице". Постепенно у Западной Церкви появляется свой собственный лик: свой язык, свое искусство, самобытный стиль. Даже проблемы у нее иные. Трудности Восточной Церкви - доктринальные, вероучительные. На Западе трудности - дисциплинарно-правовые. Самый тяжкий кризис был порожден здесь проблемой отношения к христианам, которые во время гонений отреклись от своей веры. Непримиримые Киприан и Новациан несколько раз вступали по этому поводу в конфликт с епископом Рима, занимавшим более умеренную позицию. Действенно ли крещение, совершенное еретиками, - эта проблема стала предметом другого спора между епископами Африки и римским епископом. На Востоке же по этим вопросам допускались расхождения. Стремление к организации и унификации - характерная особенность этого периода истории латинского христианского мира.
Латинская традиция западного христианства известна как католическая (с греч. -- универсальная) церковь, однако точнее использовать термин Римско-католическая церковь. Во главе этой церкви стоит римский папа -- так с III -- IV вв. стали называть себя епископы Рима. С VI в. этот термин закрепился за главой христианской общины “вечного города”, Рима, столицы огромной империи. Римские епископы, называющие себя “наместниками Бога на земле”, поставили себя в привилегированное положение, претендуя на почетное (по преданию, церковь Рима была основана апостолами Петром и Павлом) и юридическое (как церковь столицы империи) первенство среди всех христианских церквей.
Термин “латинский” подчеркивает, что использование латыни в качестве официального языка Западной Римской империи определило связанность истории этой христианской традиции с историей народов и государств Западной Европы. Латинская традиция западного христианства прослеживается примерно с IV в.
Христианизированные народы империи стали римскими гражданами и признали особое положение церкви Рима. Европа к западу от линии Скандинавия-Карпаты-Дунай превращалась в целостное христианское сообщество, связанное общим для всех латинским языком и признанием верховенства папского престола. Эта западноевропейская общность в средние века осознавала себя как “Христианское царство”.
Становление латинской традиции шло одновременно с процессами разделения Римской империи на Западную и Восточную и упадком императорской власти на западе. В ранее едином христианстве с IV--V вв. начали обособляться два направления: западное (латинское) и восточное (греко-православное). Формальное разделение произошло в 1054 г., когда римский папа Лев IX и византийский патриарх Михаил Керулларий, отказавшийся признать притязания Рима на верховенство над греческой церковью, наложили друг на друга анафему.
С V -- VI вв. началось усиление роли римских первосвященников: возрастало их экономическое и политическое могущество. Сначала в Италии, а затем и далеко за ее пределами расширяется юрисдикция папской Церковной области. Народы Западной Европы обращались в христианство массами, всем сообществом сразу, поэтому Римско-католическая церковь развивалась как церковь целого народа, целого государственного образования. Соответственно и юрисдикция национальной империи распространялась на все население без изъятия.
До XVI в. это было обязательной нормой, и лишь после Реформации удалось добиться юридической санкции на возможность разных вероисповеданий населения одной европейской страны. Высокомерный униформизм латинского христианства и порождаемое им преследование инаковерующих и инакомыслящих были унаследованы и многими протестантскими церквями. Поэтому Лютера и Кальвина сами реформаторы часто называли соответственно виттенбергским и женевским папами.
Раскол в латинской традиции западного христианства привел к победе реформаторов и созданию в XVI в. северной, или протестантской, традиции западного христианства. С этого времени церкви латинской традиции сосредоточились на юге Западной Европы. Крестовые походы под парусами доминировавших на море в XVI в. Португалии и Испании позволили учредить церкви латинской традиции не только в Центральной и Южной (Латинской) Америке, но и во многих районах Африканского побережья и отдельных регионах Азии.
Миссионерская деятельность и колониальная экспансия” XIX -X вв. способствовали еще более широкому географическому распространению Римско- католической церкви. Иммиграция из Ирландии, Италии и других европейских стран с латинской традицией христианства привела к формированию латино- христианских анклавов в Северной Америке, Австралии и других регионах с доминирующим протестантским влиянием.
В XIX в. деятельность Римско-католической церкви значительно политизировалась, что было связано с колониальной экспансией, формированием политических партий и развитием рабочего и социалистического движений в странах Европы. На I Ватиканском соборе 1869-- 1870 гг. римский папа Пий IX, за несколько лет до этого опубликовавший “Силлабус, или Полное перечисление главных заблуждений нашего времени”, стремился, с одной стороны, поднять авторитет папы и католического учения в вопросах религии, политики и идеологии, а с другой - определить позиции церкви по отношению к новым научным, общественным и политическим течениям и идеям.
Собор осудил эти учения (рационализм, пантеизм, социализм и т.д.) и демократические требования общественных движений (свобода слова, печати и т.д.), а также принял декрет о непогрешимости римского папы (наместника “Христа”), когда он выступает официально по вопросам веры и морали. Последнее решение привело к выходу из церкви части католиков и формированию ими самостоятельной старокатолической церкви. Эти небольшие церкви действуют сегодня в нескольких западноевропейских странах и США.
Римско-католическая церковь отдает приоритет преданию , т.е. наряду с Библией, трудами отцов Церкви и решениями первых Вселенских соборов она поднимает до уровня непререкаемого авторитета для верующих официальные документы, подготовленные папой и высшими органами центрального церковного управления. Римско-католическая церковь не рекомендовала (до II Ватиканского собора) верующим самостоятельное изучение Библии, настаивая на чтении в присутствии священнослужителя, который дает официальное толкование. Только в иерархии латинского христианства есть кардиналы . Таинство конфирмации (с лат. - миропомазание) проводится в возрасте 7 - 13 лет. Евхаристия совершается не на квасном хлебе (как у православных), а на пресном (облатка). Крестное знамение совершается не справа налево, как у православных, а слева направо.
К Римско-католической церкви примыкают униатские церкви , т.е. национальные христианские церкви, подписавшие унию (с лат. - союз) с Ватиканом. Униатские церкви принимают вероучение и руководство Римско-католической церкви, но сохраняют национальные особенности в богослужении и обрядовой практике. Униатские церкви придерживаются различных обрядов: греческого, халдейского, армянского, маронитского, сирийского и коптского.
В первой половине III–го в. настали более благоприятные условия для возникновения христианской науки, чем в предшествующие века: гносису нанесены были глубокие раны, накопился запас духовных сил. Но в это же время не прекращались нападки на христиан со стороны языческих философов, особенно неоплатоников. Ввиду этих нападок и христианские писатели должны были воспользоваться орудиями науки и облечь свою веру в формы, соответствующие научным взглядам современного им общества. Научное течение в христианстве зародилось, таким образом, не без соприкосновения с языческой наукой и зародилось оно там, где в то время процветали классические науки, т.е. в Александрии, а затем в Антиохии.
Под руководством выдающихся христианских ученых Александрийская и Антиохийская школы обратились в своеобразные христианские академии, где Священное Писание было главным предметом изучения. Но эти школы значительно отличались по методу исследования священного текста.
Получив образование в одной из таких школ, последующие христианские писатели развивали эти основы в своих сочинениях, сохраняя усвоенные ранее методы и начала богословствования.
Образовались, таким образом, различные направления христианского богословия, известные под именем Александрийского и Антиохийского.
Александрийская школа, существовавшая, по свидетельству Евсевия, «с древнейших времен» как училище для подготовки оглашенных к крещению, достигает развития уже в III–м в., когда руководителями ее были Климент и Ориген. Сначала Ориген занимался исследованием Священного Писания, но затем ввиду притока образованных людей поставил дело шире и ввел обучение светским наукам, которые обыкновенно преподавались в высших языческих училищах.
Отличительными признаками направления в богословии этой школы были: широко применяемый в толковании Священного Писания аллегорический метод, отчасти заимствованный у Филона; стремление раскрыть философскую сторону христианского учения и представить его в виде всеобъемлющей системы. На богословствование александрийцев оказывала влияние философия Платона (427–347 гг. до Р. Хр.) и неоплатоников (в особенности Плотина - 205–270 гг.).
В представлении александрийцев истинное бытие принадлежит только духовному миру. Материальный же мир не имеет особой субстанции, т.к. материя близка к небытию. Поэтому тело человека некоторые александрийцы считали темницей души, которая является носителем образа Божия. Отсюда основная задача человека - это обеспечение духу господства над телом. Созерцательной любви они отдавали предпочтение перед деятельной и в учении о спасении преимущественное значение приписывали благодати Божией. Говоря о познании, они считали основой знания веру, рассудку же отводили подчиненное положение. Высшую форму богопознания александрийцы видели в экстазе - мистическом озарении, созерцании Бога.
Антиохийская школа получает известность несколько позднее. Ее развитие и определение основного направления в богословии связывается с именем ее руководителя - антиохийского пресвитера Лукиана, мученически скончавшегося в 311 г. Лукиан был известен своим научным анализом самого текста Свящ. Писания («Лукианова рецензия»).
Признаками Антиохийского направления следует считать, в отличие от александрийского, филологический анализ текста Свящ. Писания, историческое его истолкование с более практическими, имеющими большое применение в жизни выводами, чем умозрительные заключения александрийцев. Философской основой Антиохийской школы являлась реалистическая система Аристотеля (384–322 гг. до Р. Хр.).
В учении о мире антиохийцы не считали материю злом, ибо Бог есть Творец и мира духовного, и мира материального. Человек - образ Божий, и тело его не является темницей души. В нравственном плане они отдавали предпочтение деятельной любви. В учении о спасении они выдвигали, прежде всего, деятельную сторону - требовали активных усилий со стороны человека в осуществлении христианского идеала. В решении богословских вопросов антиохийцы придавали большое значение рассудочному познанию.
Оба направления христианского богословия имели выдающихся представителей. Александрийское - Климента, Оригена, св. Афанасия, «великих Каппадокийцев» свв. Василия и двух Григориев (Богослова и Нисского), Кирилла Александрийского и многих других. Антиохийское - Диодора Тарсийского, Феодора Мопсуетского, св. Кирилла Иерусалимского, св. Иоанна Златоустого, бл. Феодорита Кирского и др.
Но в то же время эти направления при одностороннем развитии были доведены до уклонения от чистоты Православия. С Александрийским направлением, помимо ошибок Оригена, связывается происхождение монофизитства, а с Антиохийским - происхождение арианства и несторианства.
Рядом со школами стали возникать и библиотеки. Еп. Александр основал большую библиотеку в Иерусалиме. Еще больше собрал книг Памфил в Кесарии Палестинской.
Все это - появление школ и библиотек - говорит о развитии научных интересов и об умножении средств, необходимых для процветания христианской науки.
Б. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА
ПАНТЕН
Училище для подготовки оглашенных при Александрийской кафедре, основанное вскоре после начала проповеди христианства в Александрии, получает известность уже во второй половине II–го в. под руководством Пантена. Пантен был учителем Климента и учеником «пресвитеров», которые видели апостолов. От стоицизма он обратился к христианству и ревность свою проявил в миссионерском путешествии в «Индию», вероятно, в Южную Аравию, где нашел Евангелие ап. Матфея на еврейском языке, принесенное туда ап. Варфоломеем. О Пантене дал высокий отзыв его ученик и преемник по руководству училищем Климент: «Был он поистине Сицилийской пчелой. С пророческого и апостольского луга сладость собирая, напечатлевал он в душах слушателей мудрость некоторую чистую и святую» (Строматы, I, 1). Имеются сведения, что Пантен не только учил, но и писал, хотя сочинения его не сохранились.
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
Сведений о жизни Тита Флавия Климента сохранилось немного. Родился он ок. 150–го г., возможно, в Афинах; получил хорошее образование. Для этого предпринял особые путешествия, чтобы слушать различных учителей философии. По‑видимому, был посвящен в какие‑то языческие мистерии. Естественно, что он мог узнать и христианское учение и, действительно, обратился через знакомство с Пантеном, которого встретил в Александрии, куда он прибыл в поисках учителя возвышенной философии.
Климент имел сан пресвитера и заменил Пантена после его ухода на проповедь. Во время гонения Септимия Севера Климент удалился из Александрии к своим ученикам (еп. Александру Каппадокийскому и др.). Скончался в 216–м или 217–м г. вне Александрии.
Как писатель Климент обладал огромной эрудицией: в его сочинениях имеются ссылки на все священные книги Ветхого Завета, кроме Песни Песней и книги Руфи, а из Нового Завета - кроме послания Иакова, 2–го послания Петра и послания к Филимону; имеются ссылки и цитаты из «Дидахи», «Пастыря» Ерма, посланий Варнавы и св. Климента Римского и из отдельных апокрифов. Что касается его знакомства с языческими авторами, то одно их перечисление в издании XVII в. Фабриция занимает свыше 10–ти страниц.
Собственно значение Климента заключается в том, что он первый предпринял решительные шаги к научной постановке богословия и сделал это во всеоружии эллинского образования.
СОЧИНЕНИЯ КЛИМЕНТА - полностью не сохранились. Им была задумана целая серия сочинений, содержащих последовательно углубляющееся изложение христианского учения. Однако система Климента не столько догматическая, сколько нравственная. Это - сама жизнь, как путь совершенствования, процесс, возрастание «от силы в силу». Именно так была задумана его трилогия - «Протрептик» (лат. «Когортацио ад гэнтэс» - Cogortatio ad gentes - «Увещание к эллинам»), «Педагог» и «Дидаскалос». Вся трилогия должна была изобразить весь путь нравственной жизни человека от состояния падения до состояния совершенства. Особенность этих сочинений состоит в том, что Климент говорит в них не от своего лица, а от Лица Логоса.
В «Протрептике» Климент обращается от лица Логоса к язычникам. Задача сочинения чисто миссионерская: имеет в виду обнаружить пред язычником всю несостоятельность его религиозных верований, и, доказав ему преимущества христианства, приобрести его для Церкви. Соответственно этой цели Климент подвергает критике оракулы, мистерии, мифологию, жертвы, религиозные доктрины философов и поэтов. В философии, по его учению, только часть истины, полная же истина открыта пророками, через которых говорил Дух Святой. После же явления на землю Самого Логоса, чтобы искупить падшего человека и сообщить нам истину, нигде не надо искать истины, как у Него, ибо Он - Слово Истины. С этого времени «Божественная Сила наполнила вселенную семенами спасения».
Слушайте вы, стоящие вдалеке, и вы, стоящие близко, Слово не скрыто ни от кого. Оно есть общий свет. Оно сияет на всех, и нет тьмы в мире. «Поспешим же ко спасению и возрождению» (гл. 9). Нужно избрать суд или милость, жизнь или разрушение. Веруй в Бога и человека, и душа твоя покажет жизнь.
Этим призывом к вере заканчивается первая книга Климента.
В конце Сам Логос выводится говорящим к эллинам и варварам и увещающим их последовать Мудрости Божией.
В «Педагоге» Логос уже выступает с другой задачей - перевоспитать к новой жизни обратившегося язычника и тем подготовить его к следующей ступени духовного развития и постижения духовного гносиса. «Педагог» состоит из 3‑х книг. В первой книге говорится о Самом Воспитателе - Логосе, о воспитываемых Им чадах и о средствах воспитания. Во второй и третьей книгах даются наставления Логоса о христианской жизни, причем, параллельно рисуется картина распущенности высшего общества, бичуются его пороки. Климент особенно вооружается против невоздержания и показывает образ идеального поведения, сообразно с требованиями Логоса.
Здесь также во всем оказывает помощь Христос: «Весь человеческий род нуждается в Иисусе: больные во враче, странствующие в путеводителе, слепцы в Едином, приводящем к свету, жаждущие в источнике воды живой, мертвые в жизни, овцы в пастыре, дети в учителе».
«Спасение человека есть самое великое и царское дело Божие».
Для человека, оставившего языческие заблуждения и путем строгой дисциплины освободившегося от пороков, возможна еще высшая степень совершенства. Высшие истины религии доступны лишь чистому сердцем. Если человек очистится под воспитательным водительством Логоса от всего, оскверняющего душу и ум, то он становится достоин посвящения в сокровеннейшие тайны религии, усвояемые верой только поверхностно. После того, как Логос был Увещателем и Воспитателем верующего, Он становится его Учителем. Соответственно этому Климент имел намерение составить третье сочинение под заглавием «Дидаскалос», в котором от лица Логоса он хотел изложить догматические истины христианства в их высшем, духовном понимании для наиболее зрелых членов Церкви. Но он не успел выполнить этого плана.
До нас дошло третье большое сочинение Климента - «Строматы». Но этот труд не есть обещанное им завершение общего плана. Из «Стромат» видно, что «Дидаскалос» должен был содержать раскрытие учения о Боге, мире, душе, Свящ. Писании и воскресении - более высокое понимание христианства. «Строматы» не содержат систематического раскрытия учения об этих предметах. Полагают, что «Строматы» должны были служить введением к «Дидаскалосу».
«Строматы» - значит «ковры», «ткань» - так назывались собрания отдельных мыслей, не приведенные автором в цельную систему (см. «Строматы», кн. IV, гл. 2).
Все сочинение состоит из 7‑ми книг и по объему является самым большим из сочинений Климента. В нем нет порядка в изложении мыслей и планомерности. Нет в нем и полного изложения системы христианского гносиса: большая часть «Стромат» посвящена решению предуготовительных вопросов. Полностью изложить содержание «Стромат» при массе отступлений п побочных подробностей не представляется возможным.
В первых двух книгах Климент говорит об отношении классической философии и науки к христианству и доказывает их пользу и необходимость для христианина. Но основа всякого религиозного знания, по мысли Климента, есть вера в Откровение.
В 3 – 4‑ой книгах Климент обстоятельно раскрывает отличие церковного гносиса с практической стороны от еретического; оно выражается в соблюдении телесной чистоты в браке и безбрачии и в любви к Богу, запечатлеваемой подвигом мученичества.
Указавши свойства истинного гносиса, Климент в 5‑й книге снова возвращается к вопросу веры и знания. Для постижения Бога необходимо отрешиться от мира и мирских вещей, но и при этом условии Бог ограниченным разумом человеческим не может быть постигнут, поэтому познание Его является исходящим от Него даром. В конце 6‑й главы он изображает истинного гностика в его жизни, как воплощение христианского нравственного идеала (см. также кн. IV, гл. 21–23, 26; кн. VI, гл. 9; кн. VII, гл. 3, 10 –14).
В 6‑й книге Климент приходит к выводу, что философам ведома была религиозная истина и что истинный гностик может пользоваться и философией, хотя и несовершенной в сравнении с Евангелием, но все же исходящей от Бога. Истинный гностик - один из всех людей достигает совершенства в собственном смысле слова и в будущей жизни будет удостоен высших почестей. В этой жизни истинному гностику доступно понимание таинственного смысла Писания, доступна и философия.
В 7‑й книге доказывается, что только христианский гностик является истинным почитателем Бога. Он знает Бога и в своем бесстрастии всеми силами старается уподобиться Ему и Его Сыну. В жизни своей гностик обнаруживает совершенства: он настолько правдив, что не имеет нужды прибегать к клятве; примером своим постоянно назидает других и путем постепенных очищений достигает высшего совершенства - созерцания Бога. Он мужественно переносит несчастья и даже смерть, раз на то воля Божия; благотворит всем, соблюдает воздержание, презирает суету мирскую, прощает все оскорбления и обиды.
В Кодексе флорентийском вслед за 7‑й книгой следует 8‑я (есть она и в русском переводе). Но она не имеет с предшествующими книгами никакой связи. Поэтому большинство ученых отказываются считать ее за продолжение «Стромат». Полагают, что этот отрывок из недошедших до нас «Ипотипоз» Климента.
Так как в «Протрептике» язычники призываются к истинной вере и разъясняется причина превосходства христианства над язычеством, в «Педагоге» даются общие катехизические познания о вере вновь обращенным, а в «Строматах» указываются пути истинной христианской жизни и благочестия, то данную трилогию можно считать курсом преподавания Закона Божия.
«Кто из богатых спасется» (42 гл.). Единственная сохранившаяся гомилия Климента посвящена вопросу о богатстве и бедности. Она представляет собой толкование евангельского рассказа о богатом юноше (Мф. 19, 16–30), в частности, слов: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» В гомилии выясняются условия, под какими богатый может спастись.
Богатство само по себе безразлично - ни добро, ни зло, а становится таковым от такого или иного употребления его.
Слова Господа об отречении от богатства нужно понимать в таком же смысле, как и слова Его об отречении от отца, матери и т.п. Здесь Господь не ненависть заповедует по отношению к родным, ибо Он велел любить даже врагов наших, а отречение от них в том случае, если они во имя родственных связей будут отвлекать от Христа и приучать нечестию.
Впавшие в страсти не должны отчаиваться - дорога покаяния всегда для них открыта. Как пример силы покаяния под благодатным воздействием руководителяа, Климент раскрывает трогательную повесть (сказание) об одном юноше, обращенном ап. Иоанном ко Христу, но потом ставшем разбойником: его Апостол нашел в горах и своей любовью привел к покаянию и сделал достойным спасения (см. гл. 42).
Сохранились в отрывках «Ипотипозы» - очерки или схолии на отдельные места Свящ. Писания, позволяющие заключить о методе истолкования, принятом Климентом.
Остальные сочинения Климента утеряны.
Что касается стиля, то Климент пишет гладко, с ораторским подъемом и довольно чистым языком. «Что же до меня касается, - пишет Климент, - то я единственной поставил себе целью - это жить согласно с заповедями Логоса и проникать в дух Его учения; - никогда не заботиться о красноречии, а довольствоваться лишь выяснением для других того, до уразумения чего сам достиг… Поставить на путь спасения души, жаждущие спасения, и содействовать их спасению - вот наипрекраснейшее в моих глазах дело, а не мелочный подбор слов с целью надевать на речь как бы какие мелкие женские наряды… Слог - это одежда, а излагаемый предмет из себя представляет как бы мясо и нервы тела. Не следует об одежде больше заботиться, нежели о здоровье тела… Не то кушанье хорошо приготовлено, в котором больше приправ, чем питательных веществ: подобно этому и речь не та должна быть считаема за приятную и тонко сложенную, которая заботится больше о доставлении удовольствия своим слушателям, нежели пользы» (Стром. I, 10).
ВОЗЗРЕНИЯ КЛИМЕНТА
Воззрения Климента представляют собой смесь разнородных элементов, церковных и философских.
Источниками христианского вероучения он признает Свящ. Писание и Предание. Но строго нормативного значения для него они не имеют. Он понимает их в духе своих философских воззрений, а, главное, - слишком расширяет их объем.
Расширяя объем канона, Климент еще более расширял содержание Свящ. Писания, допуская, вслед за Филоном, аллегорическое истолкование его.
Отношение к философии. Важность философского мировоззрения Климента заключается в его попытке философски обосновать христианство, в попытке выработать христианский гносис и доказать, что философия есть один из истинных путей ко Христу. В этом он подходит к св. Иустину. Но взгляды Климента на философию несколько отличались от современных. Для Климента всякое учение, в котором проповедуется благочестие и нравственность, будет философией. Быть философом - это значит вести аскетический образ жизни. И философы для эллинов были тем, чем были пророки для иудеев. Отсюда он Евангелие считает единой истинной философией, а христиан - философами, Ветхий Завет - философией евреев. Христианские аскеты и мученики тоже философы, а упражнения в добродетели - истинное любомудрие.
Климент, таким образом, имеет необыкновенно широкий взгляд на философию и готов ставить ее под одну рубрику со Свящ. Писанием. Но во время Климента многие правоверные смотрели на философию, как на дело диавола и всячески чуждались ее. Поэтому Клименту в интересах защиты своей философской системы необходимо было доказать божественное происхождение философии, что он и делает.
Философия, по мнению Климента, приготовляла греков ко Христу, как Закон - иудеев. Она была делом Божественного Промысла, даром Божиим грекам.
Как школьные науки подготавливают к пониманию философии, так философия есть пособница к приобретению истинной мудрости. Но значение философии не ограничивается областью пропедевтики и педагогики. Она необходима и для христиан даже и тогда, когда они просвещены светом веры: она помогает уяснять содержание веры, очищает человека от страстей, ставит его выше чувственности и, таким образом, приводит к нравственному совершенству.
Одним словом, философия углубляет веру, возвышает ее к гносису, т.е. на степень науки. Но при всем том она является только служанкой богословия.
Вера и гносис. Вопрос об отношении веры и гносиса был самым спорным в то время. Гностики пренебрежительно смотрели на веру, считая ее достоянием психиков. С другой стороны, правоверные христиане отрицали всякий гносис, как заблуждение, чуждались науки и считали излишним всякие доказательства своей веры. В противоположность этим крайним мнениям, Климент старается примирить веру и знание. Этой задаче он, главным образом, и посвящает свои «Строматы» и разрешает ее, в общем, настолько удовлетворительно, что его теория отношения веры и гносиса сохранила значение и в последующее время, а вполне была усвоена великими отцами IV в.
Против гностиков Климент защищает необходимость веры. В жизни вера, которая есть «некоторое внутреннее благо, даруемое от Бога», является как бы предвосхищением полного знания, есть его начало и необходимо ему предшествует. Всякая наука исходит из основных положений, которые ничем не доказываются, а принимаются на веру. В особенности же это имеет место в философии и религиозном познании: человек сам своими слабыми силами не может познать Бога, ибо рожденное не может приблизиться к нерожденному. Познание Бога может быть сообщено ему только через веру. (См. «Строматы», кн. II, гл. 4 - «Польза веры: она основа всего знания»).
Но вера по существу своему вытекает не из простого и неразумного доверия к внешнему авторитету, а из внутреннего чувства, мистической силы, прирожденной человеку. Последний, по самой богоподобной природе своей, имеет влечение к божественному и потому, как бы по естественному стремлению, убеждается в истинности божественного откровения, когда оно подается ему Богом.
Вопреки отрицательному отношению правоверных кафоликов к гносису, Климент защищает и необходимость гносиса для достижения нашего совершенства. Вера не может остановиться в своем развитии. Она должна расти и совершенствоваться, восходить от веры в веру. Без этого она не будет твердой и прочной, не будет надежно ограждена от всяких нападок и заблуждений. Совершенство придает вере гносис. Вера и гносис относятся, как фундамент здания и здание, как слово внутреннее и слово выраженное.
Таким образом, Климент признает две ступени духовной жизни христианина - ступень веры и ступень гносиса.
Различие между верой и гносисом касается как интеллектуальной, так и моральной стороны. Первое отличие знания гносиса от знания веры касается его глубины: верующий живет внешней стороной религии, а гностик (христианин, достигший нравственного совершенства) - внутренней; верующий довольствуется знанием самых необходимых истоков вероучения и притом в самом сокращенном виде - гностик достигает познания о Боге и вещах божественных, о человеке, его природе, о добродетели, о высшем благе, о мире; словом, создает себе стройную систему миросозерцания.
В такой же степени, как и знание, отличаются друг от друга мораль гностика и мораль веры. Побуждением к нравственной деятельности у верующего служит страх перед наказанием и надежда награды. То и другое вытекает у него из веры в правосудие Божие. У гностика побуждением является бескорыстная любовь к добродетели, стремление к добру ради добра. Верующий является, таким образом, рабом, а гностик - свободным сыном Божиим.
Принципом деятельности у верующего служит «согласие с природой», соблюдение естественной умеренности в удовлетворении потребностей. Человек должен есть, чтобы жить, а не жить, для того, чтобы есть. Принципом же деятельности у гностика является аскетическое возвышение над потребностями природы ради любви к Богу. Дух гностика всецело устремлен к Богу. Его жизнь - непрестанная молитва, мысленный разговор с Богом, постоянное памятование о Нем. Гностик уже здесь, на земле, достигает некоторого богоподобия и путем совершенной любви соединяется с Богом. Высокая нравственность поэтому служит характерным признаком истинного гносиса (см. «Строматы», IV, 21–23).
Несмотря на различие веры и гносиса, по существу они однородны. Содержание их одно и то же, и различаются они лишь в формальном отношении, по степени разработанности и развития. Гносис есть та же вера, только научно обработанная, это - верующее знание. Вера - основа гносиса; она его источник, ибо дает ему содержание, она его критерий; она настолько необходима для гностика, как дыхание воздухом. Кратко это соотношение веры и гносиса выражается в такой формуле: «Нет познания, которое не имело бы связи с верой, равно как нет и веры, которая не зависела бы от познания» (Стром. V, 1).
Установление правильного взгляда на веру и знание и их взаимоотношение составляет важную заслугу Климента в догматико‑историческом отношении.
БОГОСЛОВИЕ КЛИМЕНТА
Учение о Боге. Учение о Святой Троице у Климента выражено очень ясно: «Один Отец всего, Один и Логос всего и Дух Святой».
Основным учением в системе Климента является учение о Боге. Климент преимущественно развивает абстрактно‑философское платоновское понятие о Боге, как первоначал всего. Это и есть то понятие, которое имеет истинный гностик.
Бог «по ту сторону мыслимого», выше всяких определений и недоступен по Своей Сущности ограниченному познанию человека. Мы знаем, что Бог существует, а не то, что Он есть по Своей природе. Бог - вне пространства, вне времени, не вид, не число, не подвержен страстям и т.д. Этот метод отрицания в Боге всего ограниченного («апофатический» метод богословствования) освобождает человека от всех чувственных представлений о Боге. В соответствии с этим Климент, как и св. отцы, понимает антропоморфизмы Ветхого Завета (выражения: «очи», «уши», «руки» Божии или «гнев», «ревность» и др.), как символы действий Божиих.
Некоторое положительное знание о Боге человек может получить из Самооткровения Божия. Отсюда можно постичь, что Бог - «Отец всего», что Он бесконечно благ. «Не безвольно, как огонь согревающий, но по воле Своей раздающий блага». (См. «Строматы» V, 12; II, 2).
Учение о Логосе. В учении о Логосе Климент во многом следует Филону. Подобно ему, он понимает Логоса то в платоновском смысле, как совокупность Божественных идей и первообраз всех вещей, пребывающий в Боге, то в стоическом смысле, как имманентную миру силу, проникающую все бытие и оживляющую все его части.
Логос - нераздельная, но отличная от Отца сила; «Он - средоточие всех сил, посему именуется Альфой и Омегой».
Признавая совечность Сына Отцу, Климент отчетливо учит о Его Божестве: «Тот и Другой суть едино, оба существа Божественные» (Пед., I, 8).
Логос имеет особое отношение к миру. Проф. Попов так формулирует это отношение: «Логос по лестнице небесных и земных существ нисходит до самых последних глубин, до самого ничтожного творения. Все разумные существа образуют обширную и постепенно нисходящую иерархию, подобную железной цепи, в которой каждое звено, будучи поддерживаемо высшим, в свою очередь поддерживает низшее» (Конспект лекций…, с. 103–104).
Учение о творении мира Климент излагает, в основном, правильно: он отрицает вечность материи и предсуществование душ. Логос - Творец и Промыслитель мира. Но библейский рассказ о шестидневном творении Климент понимает аллегорически, как указывающий на логический, а не временный порядок возникновения мира - мир создан в одно мгновение. Логос - Свет мира - не только создает мир, но всегда промышляет о мире.
Учение о человеке. В учении о человеке Климент первый вводит вполне определенно платоновскую трихтологию, различая плоть, душу и дух человека. Он признает две души - плотскую или чувственную и духовно‑разумную, владычественную. Первая является источником органической жизни человека и низших пожеланий и стремлений; вторая есть носительница разума и свободы и имеет руководящее значение в жизни человека.
Зло и добро не заключаются в плоти и духе человека. Это дело его свободы. Сущность падения Климент признает в злоупотреблении свободой и в уклонении к чувственности.
Христология и сотериология. Христос есть воплощенный Логос. В понимании Климентом воплощения проф. Попов находит «тонкий докетизм», т. к. Климент утверждает, что Христос был чужд всех человеческих страстей: удовольствия, печали, волнения, что тело Его не нуждалось в принятии пищи и т. д.
Несмотря на этот слабый докетизм, Климент мыслил Христа как Богочеловека.
Дело Христа понимается преимущественно как откровение истины. Христос есть, прежде всего, Педагог и Учитель. После Его явления нет нужды посещать Афины или Элладу в поисках истины. Но Христос есть также и Искупитель. Он стал «путем восстановления человека» к прежнему состоянию. Логос сделался человеком, «чтобы и ты теперь от человека научение принял, как человек мог бы стать богом» (Прот. I). Он воплотился, чтобы нас избавить от грехов, и является искуплением за нас через Свою Кровь. Принесши спасение, Христос всех призывает к Себе. Дело свободы человека - последовать этому призыву, послушаться учения Христа, освободиться от греховных страстей, осуществить в своей жизни божественные заповеди и достигнуть первоначальной простоты, собранности - бесстрастия. Стимулом такого движения вначале может быть страх наказания или желания награды, у «гностиков» же - стремление души к Богу, истине и красоте, к познанию Бога.
Для христианской этики, или Нравственного богословия, учение Климента важно тем, что спасение показано как нравственный процесс, совершаемый не вне, а внутри самого человека.
Учение о Церкви и таинствах. Климент мало касается вопросов о церковном устройстве, иерархии, таинствах, да и там, где касается, большей частью впадает в символизм.
Церковь он понимает как духовный храм, созидаемый Самим Логосом, как Деву и Мать, питающую нас духовным молоком, кровью Логоса. К ней должен приходить всякий, желающий спасения, ибо она - собрание избранных.
Особенное положение принадлежит людям, стоящим на ступени христианского гносиса. Гностики образуют тело Христа, другие - только Его плоть.
Церковь «древняя кафолическая», в противоположность ересям, едина по единству веры и сохраняет истину - апостольское предание.
Членом Церкви человек становится через Крещение. Крещению Климент придает важное значение. Оно есть возрождение, делающее нас детьми Божиими; мистическое просвещение, сообщающее душе свет богопознания; духовное омовение, дающее залог бессмертия.
Так как человек согрешает и по Крещении, то допустимо для очищения его второе покаяние, т.е. Покаяние после Крещения. Но, вслед за Ермом, Климент допускает только одно Покаяние.
Об Евхаристии Климент пишет: «Логос предлагает нам Свою Плоть и изливает в нас Свою Кровь, способствуя чрез то росту Своих чад. О дивное таинство! Оно повелевает нам оставить прежние плотские увлечения, равно как и прежнюю потачку им, следовать же другому, Его, Христа, образу жизни - оным, насколько то возможно, внутренно проникаясь, оный в себе самих воспроизводя, Спасителя в груди нося, дабы чрез то могли мы обуздать пожелания своей плоти» (Пед. I, 6).
Характерен взгляд Климента на брак. В противоположность гностикам - энкратиатам, отвергающим брак, Климент защищает его, а безбрачие не рекомендует.
Эсхатология. Климент отрицал хилиазм, чувственный огонь и вечность мучений грешников. Все наказания имеют исправительное или очистительное значение, все души за гробом должны пройти известный период очищения чрез стыд, раскаяние и т.д. Таким образом, у Климента даются зачатки учения об апокатастасисе и временности адских мучений, которое вполне развито у Оригена.
Будущее блаженство будет иметь свои степени. Но высшим блаженством будут наслаждаться гностики, которые войдут в обитель Божию, чтобы созерцать Его в вечном и несказанном свете.
В учении Климента проявляется влияние Филона, стоической философии и гностицизма. Ряд его положений впоследствии был отвергнут. Но все же, как заключает проф. Карсавин, Климент больше христианин, чем философ, потому что исходил не из теории, а из жизни.
Климент, как учитель Оригена, естественно, оказал на него значительное влияние.
ОРИГЕН
«Ориген, - говорит проф. прот. П. Гнедич, - был одним из немногих древне‑христианских писателей, оказавших такое большое влияние на развитие христианского богословия и вокруг имени которого возникло столько споров».
Ориген первый из церковных писателей, о жизни которого сохранилось достаточно сведений.
Родился он в 185‑м г. в христианской семье и был христианином с детства. Отец его - Леонид, учитель грамматики, скончавшийся мученически в гонение 202‑го - 203‑го гг., и мать - еврейка, обратившаяся в христианство, были первыми наставниками сына. Затем Ориген учился в катехизическом училище у Климента.
Оставшись без средств, после смерти отца и конфискации имущества, Ориген, не желая пользоваться помощью посторонних, зарабатывает на содержание себя и семьи частными уроками. После же отъезда из Александрии Климента, в возрасте 21‑го - 22‑х лет, заменил его в качестве руководителя училища оглашенных.
Обучая других, Ориген продолжал учиться сам: он изучал у раввинов еврейский язык, у неоплатонического философа Аммония Саккаса - философию, совершал путешествия со специальной целью слушать лекции известных философов.
Особенно много Ориген изучал Священное Писание и очень скоро приобрел большую известность как христианский учитель.
С юности Ориген жил аскетически. Днем он занимался с учениками, ночью изучал Свящ. Писание, спал на голой земле, ел лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни, не носил обуви, не имел второй перемены платья. Ревность свою к исполнению евангельских требований Ориген довел до того, что, понимая буквально слова Христа Спасителя о скопцах, «которые сделали сами себя для Царства Небесного» (Мф. 19,12), оскопил себя и этим избавился от возможной клеветы, т.к. ему приходилось заниматься и с женщинами. Но нужно заметить, что этот поступок отдельные его биографы отрицают.
Ввиду увеличения числа желающих слушать Оригена, он поручил преподавание оглашенным своему ученику Ираклу, а сам ограничился чтением лекций слушателям более подготовленным.
Ориген иногда оставлял Александрию: ездил в Аравию к ее правителю, пожелавшему его слушать и просившему об этом еп. Димитрия; ездил в Рим, «чтобы знать наиболее древнюю Церковь римлян», где познакомился и подружился с будущим Римским епископом св. Ипполитом, а в 216‑м г. во время репрессий, наложенных на Александрию императором Каракаллой, удалился в Кесарию Палестинскую, где по просьбе своих учеников епископов Феоктиста Кесарийского и Александра Иерусалимского много проповедовал за богослужением.
После возвращения в Александрию особенно увеличивается деятельность Оригена как писателя. Его ученик Амвросий предоставил в распоряжение Оригена целый штат стенографов и переписчиков, которым он диктовал свои сочинения. Это оказало, несомненно, большую помощь Оригену, но и в то же время послужило причиной, что записанные на слух сочинения были недостаточно обработаны и проверены самим автором.
В Антиохии Ориген беседовал о Христе с матерью императора Александра Севера и обратил ее в христианство. Кроме того, в 230‑е годы он посетил Грецию, а по пути через Палестину был посвящен во пресвитера епископом Феоктистом. Кесарийский епископ хотел предоставить Оригену большую возможность проповедовать за богослужением. Но Александрийский епископ, без ведома которого состоялось посвящение, увидел в этом деянии посягательство на свои права, почему не признал посвящения и осудил Оригена. Осуждение было признано Африкой и Римом, но отвергнуто Востоком. Потрясенный осуждением, Ориген остался в Кесарии и там продолжил свои ученые труды.
В гонение Декия Ориген был арестован, заключен в тюрьму, подвергнут пыткам, от последствий которых умер в 253‑м или 254‑м г. Перед смертью произошло примирение его с Александрийским епископом.
Похожая информация.